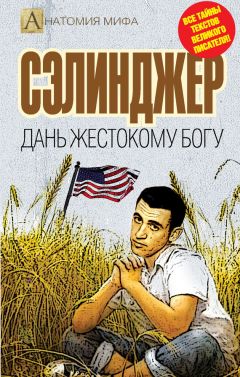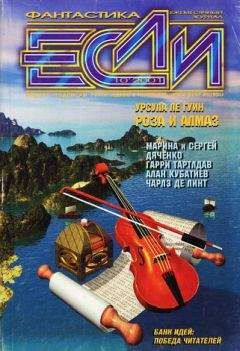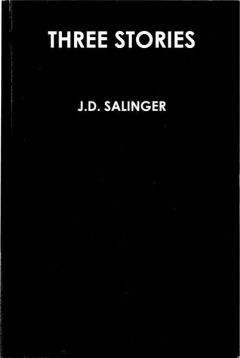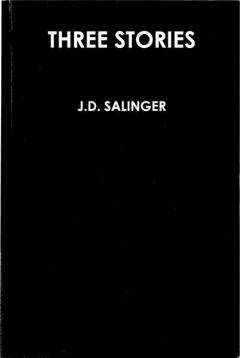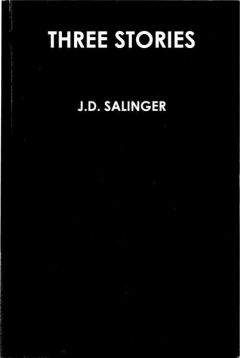Маргерит Юрсенар - Блаженной памяти
Чтобы вписать этих двух братьев в соответствующую перспективу, поглядим на небольшую группу людей, более значительных, чем они, и уж безусловно более известных, которые также «цеплялись за свою вершину» на том же отрезке века. В 1868, когда Ремо борется с ужасом перед мировым злом, Лев Толстой на постоялом дворе жалкого русского городишки Арзамас проводит в тоске и видениях ночь, которая распахнет перед ним запертые (или уже неосознанно приоткрытые им) двери, и это сделает из него нечто большее, чем просто гения. В сентябре 1872-го, когда Ремо тщательно подготавливает свое самоубийство, Рембо вместе с Верленом отплывает на корабле в Англию, а потом пускается в путь к Харару и навстречу своей смерти в марсельской больнице. Если за два года до этого Октав зашел бы в «Зеленое кабаре» в Шарлеруа, он мог бы оказаться рядом с лохматым юношей, пришедшим пешком из родного Шарлевиля с черновиком «Пьяного корабля» в кармане штанов. Я не пытаюсь набросать здесь сцену из романа: буйный архангел, которого в тот момент больше всего волновали громадные груди служанки, подавшей ему кружку пива, не признал бы в хорошо одетом господине бледного серафима, а последний наверняка отнесся бы к пророку, как к проходимцу. Если в 1873 году слухи о выстреле Верлена53 дошли до ушей Октава, ссора двух сомнительных поэтов показалась бы ему одним из эпизодов газетной хроники, слишком гнусных, чтобы упоминать о них за обеденным столом.
В 1883 году, за три месяца до того, как умер старший брат Ремо, в одном из венецианских дворцов испустил последний вздох сраженный грудной жабой Вагнер, унеся с собой тайну «странных мелодий», которые увлекли «лучезарную душу» по ту сторону порога. В том же году уходит из жизни Маркс, а за семь лет до него Бакунин. Штарнбергскому отшельнику Людвигу Баварскому еще три года предстоит сражаться с призраками и с собственной плотью («Больше никаких поцелуев, государь! Никогда никаких поцелуев!»), прежде чем кануть в воды озера Рудольф Габсбургский, своим рангом кронпринца обреченный на политическое безвластие, чередуя одну охотничью забаву другой и меняя одну любовницу на другую, вступает на путь, который в январе 1889 года приведет его в Майерлинг. Его мать, прекрасная тень по имени Элизабет54, читает Гейне в своих садах на острове Корфу и, прижавшись к мачте, наслаждается бурями греческих морей. Флоренс Найтингейл55, вернувшаяся из Скутари с болезнью сердца, почти пятьдесят лет проведет в Лондоне, прикованная к своему шезлонгу. Основатель Красного Креста Дюнан скитается из страны в страну, пытаясь найти поддержку своему начинанию, к которому люди пока еще относятся равнодушно или с подозрением; нищий, полубезумный, он в 1887 году исхлопочет для себя место в богадельне Аппенцеля, где переживет себя на долгие годы. В Сильс-Мария Ницше, потрясенный посредственностью буржуазной и бисмарковской Германии, примерно с 1883 года начинает вещать голосом Громовержца-Сверхчеловека; в 1888 году в Турине, измученный, побежденный, он бросится на шею исхлестанной лошади и навсегда погрузится в долгий сумрак. Обосновавшись в Риме, Ибсен заканчивает своего пророческого «Врага народа», в котором человек в одиночку борется с физическим и моральным загрязнением мира. До срока сдавшийся Флобер умолкает с 1880 года, растерявшись так же, как и его Бувар и Пекюше56. («Мне кажется, я иду неведомо куда через бесконечную пустыню... И сам я одновременно и пустыня, и странник, и верблюд»). В год смерти Октава Джозеф Конрад кочует между Ливерпулем и Австралией. Только в 1887 году он получит в Брюсселе патент капитана на судне, идущем в Конго, и только два года спустя вернется в тот же город с разбитыми телом и душой, потому что ему выпало увидеть «сердце тьмы» колониальной эксплуатации. Ремо, который чувствовал бы и страдал так же, как Конрад, к счастью, умер слишком рано, чтобы познать эту сторону африканской драмы. Что до Гюго, восьмидесятилетнего пророка, который умрет в 1885 году, он еще слагает александринские строфы, еще занимается любовью, думает о Боге, задумчиво созерцает обнаженных женщин. Теннисон57 дотянет до 1892-го и только тогда переступит черту. Рядом с этими прославленными именами кажется смешным упоминать Ремо, который, по выражению его брата, как бы остался без погребения, окруженный общественным равнодушием, и бледного Октава, о котором мимоходом упоминают учебники бельгийской литературы. И, однако, оба брата также были подхвачены вихрями, бушевавшими на громадной высоте над эпохой, издалека кажущейся нам инертной толщей, которая, словно огромная насыпь, нависла над бездной XX века.
Два двоюродных деда (деды, так сказать, на бретонский манер58, а вернее, на манер Эно) — родня не слишком близкая. Однако брак между состоявшими в родственных отношениях Артуром и Матильдой приближает ко мне две эти тени, поскольку четвертинка моей крови и половина их собственной текут из общего источника. Но меры жидкости мало что доказывают. Внимательный к подробностям читатель уже мог отметить черты сходства и различия между, с одной стороны, двумя братьями (такими, впрочем противоположными друг другу) и их внучатой племянницей, с другой. Различия определяются эпохой, судьбой, наконец, в меньшей степени, чем можно подумать, полом, потому что молодой человек в шестидесятые годы XIX века был свободен и стеснен примерно в том же, в чем была свободна и в чем стеснена молодая женщина в двадцатых годах XX века. Сходство чаще всего определяется культурой, но, начиная с определенного уровня, культура предоставляет возможность выбора и невольно приводит нас к более тонкому переплетению подобий. Как и оба брата, я читала Гесиода и Феокрита, повторила, сама того не зная, маршруты их путешествий по миру, уже более истерзанному и изъязвленному, чем в их время, но который сегодня, по прошествии сорока лет, по контрасту кажется нам почти незагрязненным и стабильным. Труднее поддаются определению черты сходства и различия, диктуемые социальным положением и денежными средствами: первое играло, по крайней мере для меня, роль меньшую, чем для сыновей Ирене на полвека раньше. Деньги, il gran nemico [великий враг (итал.)], которые порой бывают и великим другом, значили одновременно и больше, и меньше.
По крайней мере в одной области Ремо обошел меня на несколько корпусов. Уже в двадцать лет, вопреки наивным надеждам, которые впоследствии у него развеялись, Ремо, «неистощимая душа», как называл его брат, почувствовал контраст между жизнью, божественной по самой своей природе, и тем, во что ее превратил человек или общество, которое есть не что иное, как человек во множественном числе. В плавание «по морю слез», которое через Шопенгауэра Ремо заимствует из буддийских сутр, я пустилась очень рано — там, где стираются мои воспоминания, мне подтверждают это мои книги. Но только к пятидесяти годам горечь Ремо пропитала мою душу и тело. Я не могу, как он, похвалиться тем, что любила «только девственницу в грубой рясе — чистую мысль»; однако мысль, а иногда и то, что выходит за ее пределы, занимала меня с младых ногтей; в отличие от Ремо я не умерла в двадцать восемь лет. В двадцать лет я, подобно ему, полагала, что на вопросы, поставленные человеком, лучший, а может быть, единственно правильный ответ дала Греция. Позднее я поняла, что единого ответа Греции не существует, было множество ответов, данных разными греками, и среди них надо выбирать. Ответ Платона не похож на ответ Аристотеля, а Гераклит отвечает не так, как Эмпедокл. Я убедилась и в том, что условия задачи слишком многообразны, чтобы один-единственный ответ, каким бы он ни был, мог объять все. Но период эллинистского энтузиазма Ремо, который приходится на время между выходом в свет «Пути из Парижа в Иерусалим» и «Молитвы на Акрополе»60, возвращает меня к моей собственной молодости, и я по-прежнему думаю, что, несмотря на все рухнувшие иллюзии, мы были не совсем неправы. «Среди этих развалин, — говорит Ремо, — я вспомнил о том, как древние представляли себе Елисейские поля: места блаженства, где идет беседа с душами мудрецов... Как благородна эта мечта! Сразу представляешь себе людей, которым не чинили препятствий в их нравственном развитии, и чья молодость крепла на свободе. Их не пеленали с колыбели слишком туго... Читая Платона, я был поражен целительной атмосферой, в которой осуществляла себя его мысль... Самым отрадным впечатлением, вынесенным мной из моего путешествия, будет то, что я почувствовал красоту греческого духа, белоснежного и прочного, как паросский мрамор».