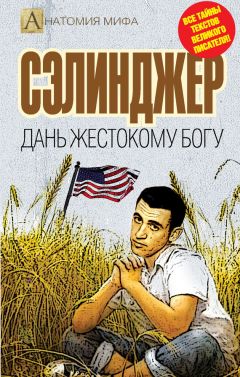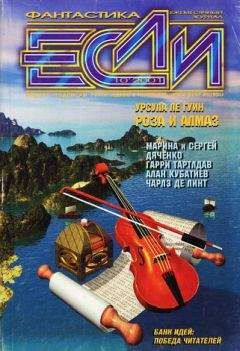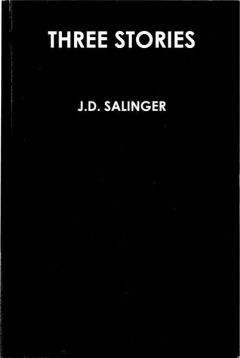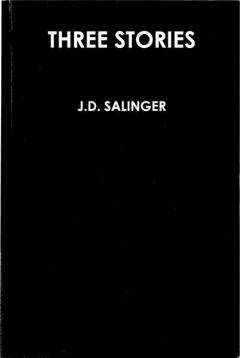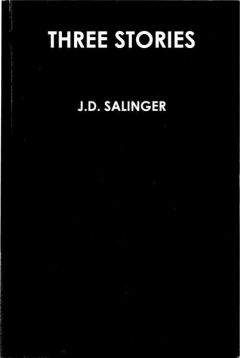Маргерит Юрсенар - Блаженной памяти
Октава похоронили на хорах старой разрушенной церкви, с помощью г-жи Ирене ему когда-то удалось добиться, чтобы ее превратили в надгробную часовню, и тем предотвратить ее снос. В 1921 году молния сожгла крышу часовни, но памятник, окруженный новыми деревенскими постройками, сохранился до наших дней. Он уже совсем не напоминает романтическое сооружение, которое, подняв глаза от книг, братья созерцали за высокими деревьями парка, думая о том, что однажды упокоятся там.
Я привожу здесь текст, посвященный «Блаженной памяти» Октава, как за десять лет до своей смерти сам поэт в книге о Ремо привел текст, посвященный памяти канцлера Гете, который его брат, тогда еще студент, получил из Веймара от любезной старой дамы из окружения великого человека. Правда, я не собираюсь сравнивать здесь славу и бренность, как это делает Октав в связи с автором «Фауста». Но эти несколько строк, посвященных Октаву, показывают, как быстро стираются индивидуальные особенности человека, преданного земле.
Счастливы, почившие в Господе.
Блаженной памяти
г-на Октава-Луи-Бенжамена Пирме,
скончавшегося в Акозском замке 1 мая 1883
в возрасте 51 года,
причастившись Святых даров
Всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедую и Я пред Отцем Моим Небесным.
Матф. X. 32
А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию.
Иов XIX. 25
Длань свою открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся
Притчи XXXI
Прошу об одном, чтобы Вы поминали меня в своих молитвах.
Блаженный Августин
Кроткое сердце Марии, будь мне приютом
100 дней отпущения грехов
Милосердный Иисус, даруй ему вечный покой
Индульгенция на семь лет
Если не ошибаюсь, Октав, который к концу жизни говорил, что отныне находит прибежище только в молитве, на страницах своих произведений только два раза поминает Иисуса. В «Ремо» он отмечает, что гуманистические мечты его современников восходят к Евангелию; в другом месте он более проникновенно вспоминает слезы Христа, пролитые над Лазарем, Текст, посвященный «Блаженной памяти»
Октава выиграл бы, если бы расхожие цитаты, приведенные выше, были бы заменены прекрасными строками из Евангелия от Св. Иоанна. Но это никому не пришло в голову, а может быть, родные предпочли им корректную банальность стихов, которые было принято цитировать. Не использовали они и Франциска Ассизского, святого, которого Октав особенно любил.
Но картинка, выбранная для этого ничем не примечательного текста, не лишена прелести. На ней, выполненной в стиле дешевых церковных поделок, в котором в ту пору, однако, еще ощущалась величавая манера XVII века, изображен длиннокудрый Апостол Иоанн в плаще, ниспадающем благородными складками, — он собирает в чашу кровь, стекающую со ступней Христа, распятого на кресте, причем виден не весь крест, а только его подножие. Эта гравюра, наверно, понравилась бы тому, кто подобным образом старался собрать кровь Ремо.
И, однако, на долю Октава выпал триумф, скромный, мимолетный, да и явившийся оттуда, откуда его трудно было ждать. Судя по всему, Октав только издали и как бы свысока следил за направлениями современной ему бельгийской литературы. Де Костеру49, умершему в нищете и забвении за пятнадцать лет до Октава, Пирме дал в свое время несколько полезных советов, соответствовавших странному гению самого творца Тиля Уленшпигеля; говорят, Октав ссудил его также деньгами. Но «Тиль», которому Пирме несправедливо отказывал в какой бы то ни было поэзии, несомненно шокировал его своим мощным реализмом и в еще большей мере бунтарским духом, каким веет от страниц романа. Дань уважения со стороны Жоржа Роденбаха50 и энтузиазм молодого Жюля Дестре51 запоздали: Октав уже умирал. Ему не пришлось стать свидетелем блестящего расцвета бельгийской поэзии, который он скромно подготовил, но при его несколько устарелых классицизме и романтизме едва ли он оценил бы символистов. Романисты натуралистической школы, которые пытались, иногда со скандалом, пробиться в стране, бывшей в ту пору одной из самых филистерских в Европе, наверняка зачастую коробили если не самого Октава, то других обитателей Акоза. Сомнительно, чтобы грубоватая чувственность Камилла Лемонье52 могла прийтись по вкусу этому любителю призраков. И, однако, статья, которую Лемонье посвятил «Ремо», глубоко тронула Октава. Когда романисту, обвиненному в непристойности, из-за его распрей с правосудием отказали в какой-то национальной премии, университетская молодежь Брюсселя решила вознаградить Лемонье, устроив банкет в его честь. На банкет пригласили Октава, который приглашение принял. Он скончался за три недели до назначенной даты. Банкет состоялся 25 мая 1883 года, и на месте, где должен был бы сидеть умерший поэт, лежала громадная охапка полевых цветов. Негромкое слово Октава, которое он сам считал таким несовершенным, было, стало быть, кем-то услышано и воспринято. Октава тронула бы эта дань уважения от тех, кого он называл «счастливой молодостью».
Прежде чем предоставить двум этим теням навсегда исчезнуть за переправой через реку смерти, я хочу задать им несколько вопросов о себе самой. Но сначала я должна сказать им спасибо. После долгой череды предков по прямой и боковой линии, о которых неизвестно ничего, кроме разве что даты рождения и смерти, наконец — две души, два тела, два голоса, которые пылко или, наоборот, сдержанно выражают свои чувства, два существа, чьи вздохи, а иногда крики ты слышишь. Когда с помощью отрывочных семейных воспоминаний я рисую свою бабку Матильду или своего деда Артура, я, чтобы дополнить их образ, сознательно или нет, использую кроме всего прочего то, что мне вообще известно о благочестивой супруге и о добропорядочном помещике XIX века. Наоборот, то, что из сочинений Октава и Ремо я узнала о них самих, выходит, так сказать, за пределы их собственной личности и бросает отсвет на их время.
Чтобы вписать этих двух братьев в соответствующую перспективу, поглядим на небольшую группу людей, более значительных, чем они, и уж безусловно более известных, которые также «цеплялись за свою вершину» на том же отрезке века. В 1868, когда Ремо борется с ужасом перед мировым злом, Лев Толстой на постоялом дворе жалкого русского городишки Арзамас проводит в тоске и видениях ночь, которая распахнет перед ним запертые (или уже неосознанно приоткрытые им) двери, и это сделает из него нечто большее, чем просто гения. В сентябре 1872-го, когда Ремо тщательно подготавливает свое самоубийство, Рембо вместе с Верленом отплывает на корабле в Англию, а потом пускается в путь к Харару и навстречу своей смерти в марсельской больнице. Если за два года до этого Октав зашел бы в «Зеленое кабаре» в Шарлеруа, он мог бы оказаться рядом с лохматым юношей, пришедшим пешком из родного Шарлевиля с черновиком «Пьяного корабля» в кармане штанов. Я не пытаюсь набросать здесь сцену из романа: буйный архангел, которого в тот момент больше всего волновали громадные груди служанки, подавшей ему кружку пива, не признал бы в хорошо одетом господине бледного серафима, а последний наверняка отнесся бы к пророку, как к проходимцу. Если в 1873 году слухи о выстреле Верлена53 дошли до ушей Октава, ссора двух сомнительных поэтов показалась бы ему одним из эпизодов газетной хроники, слишком гнусных, чтобы упоминать о них за обеденным столом.