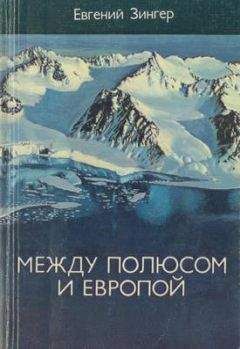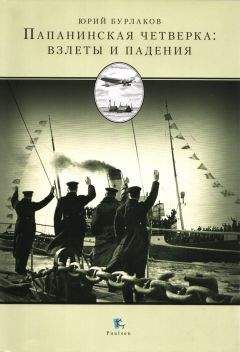Петр Гнедич - Книга жизни. Воспоминания. 1855-1918 гг.
С внешней стороны — и на сцене, и в зрительной зале было далеко не все благополучно. Освещение было плохое. Машинные приспособления были эпохи царя Гороха. Двери были в павильонах картонные. У каждой двери стояло по два плотника, обязанностью которых было их захлопывать за входящим исполнителем, — так что в них было что-то волшебное. Заспинник за дверями всегда изображал какие-то грязные коридоры, а не комнаты. Из окон виден был голубой эфир неба, хотя бы действие происходило в городе и в подвальном этаже. Актеры играли в зрительную залу, стояли нередко вряд вдоль рампы. Цвет их платьев, особенно артисток, давал нередко какофонию с цветом стен павильонов и с гарнитурой мебели. Так называемые "генеральные" репетиции только вводились — робко, неблагоустроенно. Так называемых "монтировочных" репетиций не было вовсе. С гримами и костюмами нередко знакомились только во время спектакля.
Еще отзвуки периода оффенбаховской оперетки чувствовались в репертуаре. Пьески с пением, кое-как срепетованные и еще хуже исполненные, составляли достояние образцовой сцены. Особенно много напортил в этом деле П.М. Медведев, успевший за три года своего управления затопить сцену архаическими провинциализмами и условностями. Ни Крылов, ни Карпов — не могли уничтожить эту закваску за время их управления.
При таких-то условиях приближался новый, двадцатый век. Волконский, полный несбыточных намерений, театрально образованный лучше, чем все его предшественники, получил в свое ведение четыре театра в Петербурге: оперу, русскую драму, балет и французскую труппу, — и три театра в Москве: драму, оперу и балет. Совершить реформу одновременно в семи театрах ему было не под силу. Он тщательно искал себе помощников-исполнителей. Я понимал всю важность задачи, лежавшей на управляющем русской драмой, и останавливался перед вопросом: идти или нейти?
Сергея Михайловича Волконского я знал мало. Я видел его в роли царя Федора Иоанновича на его домашнем спектакле. Это была дилетантская, художественно необработанная игра. Потом я познакомился с ним в студии одного художника. Он произвел на меня впечатление изысканного аристократа, в котором под налетом вежливости трудно определить искренность отношений.
Через день Лаппа приехал ко мне снова — с известием:
— Директор согласился войти с представлением об утверждении снова должности управляющего, — сказал он, — но самый поздний срок вступления вашего в театр 1 января.
Я согласился под условием, чтобы "Гамлет" и "Снегурочка" прошли до этого числа.
— Оно так и будет, — сказал Лаппа. — Карпов отказался наотрез оставаться и уходит немедленно. Режиссерская часть передана Давыдову, — но самое лучшее вам самим заехать к князю и договориться о подробностях.
На другой день я был у Волконского. В общем мы договорились с ним скоро. Все мои реформы он приветствовал. На ежегодные мои командировки за границу он согласился немедленно. Возвращение назад исключенных со службы прежней дирекцией артистов — Далматова, Васильевой было решено. Софокл, Еврипид, Шекспир и Гёте введены в репертуар ближайшего будущего сезона. Для немедленного ознакомления с труппой князь предоставил мне право ежедневно бывать в закрытой директорской ложе, где можно было следить за представлением незамеченным ни публикой, ни артистами. Никому из посторонних он своей ложи не отдавал.
Глава 28 Варламов
К.А. Варламов. Ранние болезни. Его первые театральные огорчения. "Опять этого скота выпустили!". Отсутствие памяти. Атмосфера смеха. Н.Ф. Сазонов. Его тривиальность.
Я начал посещать Александрийский театр, приходя в пустую директорскую ложу: князь всегда был занят балетом, оперой и французским театром, которые посещались двором, и мало отдавал времени драме. Драма вообще была, как я говорил уже, нелюбимым детищем прежних директоров, несмотря на превосходные сборы. Залучить в Александрийский театр работу первоклассного декоратора было чрезвычайно трудно; случайно попадали сюда из Мариинского театра работы Шишкова, а так для драмы заказов не делали.
Чем больше я посещал спектакли драмы, тем более смутно становилось у меня на душе, и я с ужасом думал, как подойти к этому Вавилону. Ролей не учили. Суфлер работал вовсю. Даже "Ревизора" играли своими словами, не давая себе труда выучить как надо текст. Особенно меня приводил в отчаяние Варламов.
Я знал его лично с 1878 года, когда познакомился с ним в Ораниенбауме, у молоденькой Лола: он приехал к ней обедать в день ее бенефиса. Я был с ним "на ты", впрочем, с ним да с покойным И.Ф. Горбуновым все "на ты" были. Как актера я его знал с 1871 года, когда он на летних сценах еще молодым начинающим артистом ухлопывал наповал всех с ним участвующих, благодаря необычайному таланту, сочившемуся у него из всех пор. Но наряду с огромным дарованием, это была какая-то недоконченная, первобытная натура. Он родился после смерти своего отца, умершего за картами у доктора Искоровича. Мать Кости так была поражена смертью мужа, что заболела нервной горячкой, — и Костя родился слабым ребенком. Врачи нашли, что ему нельзя прививать оспу, и он жил без оспенной лимфы в крови. Внезапно внесенная в темноту свечка или зажженная спичка — вызывали в нем припадок эпилептического характера. В семь лет его поразила натуральная оспа, следы от которой остались у него на всю жизнь. Болезнь эта повлияла на мозг мальчика. Он был настолько невосприимчив к учению, что выучился читать и писать только в двенадцатилетнем возрасте. Зато женские рукоделия нашли в нем искусного мастера — он шил и вышивал с охотой. Плохое материальное положение семьи принудили Костю искать заработка. Он поступил на сцену в Кронштадт. Тогда держала театр A.M. Читау, бывшая талантливая артистка. Она чутко угадала будущий талант в Косте. Но начало его сценической карьеры было усеяно терниями и шипами. Когда выходил он на сцену, в публике раздавались голоса: "Опять этого скота выпустили!" Эти восклицания долетали до несчастного мальчика, — и сколько ночей он провел в слезах из-за этого!
Уже тогда, в дни юности, ему стоило великого труда заучить роль. Памяти у него не было. Путем невероятного над собой насилия ему удавалось удержать в своем мозгу на несколько часов слова. Но ко второму представлению знание это улетучивалось, и он опять повторял фразу за фразой то, что ему подавал суфлер, или импровизировал роль по собственному наитию. Отсутствие культурности и образования много мешало ему, и его "отсебятины" часто были грубы и дешевы.
С годами этот недостаток усилился. Очень немногие роли — как Осипа в "Ревизоре", Грознова в "Правде" Островского — он кое-как знал. Но даже в таких превосходных своих созданиях, как Вараввин в "Деле" или Яичница в "Женитьбе", шел все время по суфлеру. Выйдя на сцену, он первым делом устремлял глаза на суфлерскую будку, и только убедившись в наличности несчастного пережитка старого театра, мог со спокойным сердцем приступить к игре. Редко артист был награжден так щедро от природы сценическими данными, как Варламов. Высокого роста, полный, — что, впрочем, не мешало его комическому амплуа, — он обладал превосходным голосом, и сердечные ноты, которые он умел извлекать порою, чаровали зал. В сущности, он не столько был комиком, сколько характерным актером. Иногда его игра поднималась до огромной высоты. Таковы были Муромский в "Свадьбе Кречинского", Вараввин в "Деле", Большинцов в "Месяце в деревне", Большов в четвертом акте "Своих людей". Гораздо слабее был он в чисто комических ролях, где бытовые черты покрывались фарсовым гротеском. Всегда, всюду, во всех чисто комических ролях — он оставался Варламовым. Публика смеялась не Синичкину, не Сганарелю, не Скотинину, — а ее смешил актер Варламов, который был смешон в каждом своем жесте, в каждой гримасе, в каждом повышении и понижении голоса. Варламов подметил все то смешное, что есть в человеческой натуре, и это смешное показывал публике, нисколько не стесняясь тем, что он изображал англичанина, итальянца, француза или русского. Он не умел, да и не хотел, придавать этим типам национальных черт, он давал им помимо национальности общечеловеческие черты и при первобытном гриме всегда оставался Варламовым — чудесным, добродушным, веселым Варламовым.