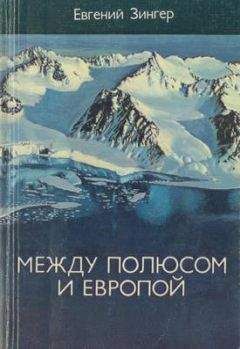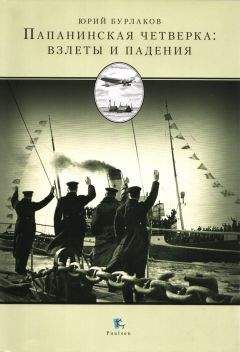Петр Гнедич - Книга жизни. Воспоминания. 1855-1918 гг.
Была осень 1900 года.
Я уже переехал из Финляндии, где проводил лето, в Петербург и жил один; жена моя полгода была в Париже. Жил я в квартире, еще закутанной по-летнему чехлами. К полудню я приезжал на репетиции театра Литературно-художественного общества, а вечером на спектакли, — я заведывал художественной частью постановок. — Утром, до репетиции, у меня никогда никого не было, но однажды — было это в конце сентября — приехал ко мне нежданный гость.
Шел дождь, частый, холодный, осенний дождь. Я случайно стоял у окна, — квартира моя была в нижнем этаже, — когда у подъезда остановилась пролетка с поднятым верхом, блестящим от дождя, и из нее вылез какой-то господин, лицо которого показалось мне как будто знакомым. Он пробежал в подъезд. Вскоре вдали пропела трель колокольчика — и мне подали карточку управляющего конторой казенных театров Лаппы-Старженецкого, причем он присовокупил на словах: "по важному делу".
— Я по серьезному делу, — сразу заявил он, вытирая мокрое от косого дождя лицо. — Меня князь прислал к вам. Он совсем разошелся с Евтихием Карповым и просит вас вступить на его место режиссером.
Разрыва их надо было давно ожидать. В воззрениях на искусство, в принципах и приемах проведения принципов на сцену — у Волконского и Карпова решительно ничего общего не было. Оставалось удивляться, как целый год со времени назначения Волконского [67] они ухитрялись ладить друг с другом!
Каждый новый начальник окружает себя новой свитой. Волконский отстранил от себя Погожева, управлявшего конторой, Молчанова, заведовавшего монтировками и редакцией "Ежегодника театров", — теперь отдалял и Карпова. Он был очень недоволен его отношением к классическому репертуару, а тем более к античному. Князь мечтал о Софокле и Еврипиде, о Шекспире и Лопе де Вега, а его встретил репертуар из десятка пьес Островского, пьес Модеста Чайковского, Невежина, Марковича, Николаева. Он рисовал себе ре-пертур компактный, сжатый, а было до сотни пьес, и, в сущности, ни одна не была поставлена строго художественно.
Обращение ко мне тоже не являлось неожиданным. Суворин в своих записках утверждает, что Волконскому указала на меня Савина и настаивала на моем приглашении. Едва ли это так. В свой январский бенефис 1901 года она собралась ставить мое "Завещание", виделся я с ней в это время несколько раз, и она ни одним словом и намеком не обмолвилась об управлении моем драмой, — что было не совсем, в ее характере. После моего вступления в должность в январе 1901 года, чокаясь у себя за ужином со мной, она сказала:
— Я очень рада, что вы назначены в нашу губернию губернатором (ее обычный modus dicendi), хотя знаю, что я — как служила до вас, так буду служить и после вас: на этом месте долго не засиживаются, это несчастие, что Потехин был у нас чуть не восемь лет.
Она не подозревала, что я буду дольше служить, чем Потехин. Итак, через Лаппу мне было сделано официальное предложение.
Труппа драмы была в это время обширная, и состав ее был прекрасный. Во главе стояли два бесспорных таланта: Савина и Комиссаржевская.
Савину я знал как актрису с первых ее дебютов — в 1874 году. Четверть века я внимательно следил за развитием ее таланта и знал ее сложную художественную натуру хорошо. Когда Дягилев в 1899 году был назначен редактором "Ежегодника театров", он прямо обратился ко мне с просьбой написать характеристику Савиной ввиду исполнившегося ее двадцатипятилетия службы. Я от души сожалел, что Савина вся растворилась в пьесах Крылова, Николаева и Персиановой, и ей почти оставался чужд комедийный репертуар Шекспира, Гольдони, Мольера. Она не выступала в пьесах Тургенева, в ролях героинь в "Нахлебнике", "Месяце в деревне" и "Завтраке у предводителя". К Островскому она еще не подходила с той стороны, с которой должна была подойти: она не играла Мамаеву, Мурзавецкую, Гурмыжскую, Кручинину. В будущем ее ожидали роли Простаковой, Кабанихи, Хлестовой. Савина была в полном расцвете сил, и от нее еще можно было ожидать многого.
Комиссаржевскую я почти не знал. Она загорелась ярким метеором на Александрийской сцене. Превосходное исполнение нескольких ролей поставило ее рядом с Савиной. Тот "надрыв", что чувствовался в ее таланте, как раз шел в тон общему настроению общества. Как "Хмурые люди" Чехова сделались любимыми героями молодежи, так Комиссаржевская стала ее любимой актрисой. К сожалению, положение ее на Александрийской сцене было в 1900 году уже катастрофическим: ей совершенно не удалась Дездемона, которую она играла с Сальвини во время его гастролей в феврале месяце. Только враг ее мог дать ей эту роль, совершенно неподходящую к ее данным, да еще заставил ее играть с величайшим актером мира. Затем осенью ей не удалась Марья Андреевна в "Бедной невесте": она не могла найти перспективу для этой роли. Впереди ей предстояла — Офелия и Снегурочка, — опять-таки роли, совершенно неподходившие к ее дарованию. А в бенефис она хотела поставить "Ромео и Джульетту" — это было бы ее конечным провалом. Но об этом после.
Кроме этих двух исполнительниц, были еще в труппе такие силы, как Жулева, Мичурина, Потоцкая, Стрельская, Дюжикова, Левкеева, Абаринова, Александрова, которые всегда могли бы занимать значительное место в самой сильной труппе.
Силен был и мужской состав. Там были Давыдов, Варламов, Медведев, Самойлов, Сазонов, Аполлонский, Юрьев, Ленский (Оболенский), Ге, Писарев, Ходотов, Шаповаленко, Шемаев и др. К сожалению, ушли как раз летом 1900 г. Дальский, хороший трагический актер, и Горев, чудесный характерный талант, и, наконец, Стрепетова. Вместо того чтобы стягивать талантливых актеров к образцовой сцене, распускали прежних. В прошлом отпали Далматов и Васильева. Следовало немедленно пригласить и Кондрата Яковлева, и Степана Яковлева, обещавших стать большими актерами в будущем.
Но главный недостаток Александрийского театра — было отсутствие срепетовки. Все было недопечено, сделано тяп да ляп. Ни одной не было тщательно срепетированной и хорошо поставленной пьесы. Несмотря на талантливость отдельных исполнителей, ансамбль совершенно отсутствовал. Неряшество самого заурядного пошиба чувствовалось в исполнении таких классических вещей, как "Горе от ума" и "Ревизор". Грязь царила за кулисами. Плевки, окурки в общих уборных, посуда совершенно неудобная во всяких иных помещениях, кроме спален, грязные обои, отсутствие фойе для артистов, кучера в отрепанных кафтанах, смотревшие в щели павильонов на игру актеров — все это делало из императорского образцового театра какой-то хлев, какие-то вековечные авгиевы конюшни.
С внешней стороны — и на сцене, и в зрительной зале было далеко не все благополучно. Освещение было плохое. Машинные приспособления были эпохи царя Гороха. Двери были в павильонах картонные. У каждой двери стояло по два плотника, обязанностью которых было их захлопывать за входящим исполнителем, — так что в них было что-то волшебное. Заспинник за дверями всегда изображал какие-то грязные коридоры, а не комнаты. Из окон виден был голубой эфир неба, хотя бы действие происходило в городе и в подвальном этаже. Актеры играли в зрительную залу, стояли нередко вряд вдоль рампы. Цвет их платьев, особенно артисток, давал нередко какофонию с цветом стен павильонов и с гарнитурой мебели. Так называемые "генеральные" репетиции только вводились — робко, неблагоустроенно. Так называемых "монтировочных" репетиций не было вовсе. С гримами и костюмами нередко знакомились только во время спектакля.