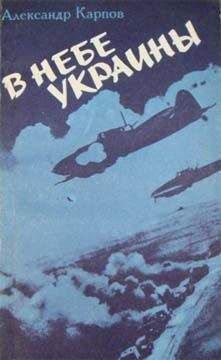Григорий Речкалов - В небе Молдавии
Ни один самолет не попался мне по дороге. Только в районе Сынжереи я встретил Ивачева и Селиверстова. Они уже возвращались, оставив на земле три догорающих "мессершмитта". Один "худой" пришелся на долю Кузи, и мы видели, как сбитый им летчик все еще спускается на парашюте.
В этот день немцы не досчитались еще девяти самолетов. Перед отъездом на ужин майор Матвеев зачитал нам телеграмму командующего ВВС 9-й армии: всему личному составу полка объявлялась благодарность.
Небольшое помещение столовой раньше не вмещало всех сразу, мы ужинали обычно в две очереди. Но сейчас за столами было пустовато.
Сегодня, впервые за дни войны, все были в приподнятом настроении. Казалось, веселее звучал баян; за столами слышались песни.
Кузя Селиверстов затянул высоким хрипловатым голосом:
Пьют и звери, и скоты,
И деревья, и цветы...
Размахивая руками, ему пришел на помощь Барышников:
Даже мухи без воды
И ни туды, и ни сюды!
Но сильный голос Ивачева заглушил обоих. Обняв за плечи Селиверстова, Костя запел:
Были два друга в нашем полку,
Пой песню, пой!
Если один из друзей грустил,
Смеялся и пел другой...
Рядом Дьяченко и Фигичев разноголосо напевали раздольную "Распрягайте, хлопцы, кони".
Баянист наигрывал попурри, никому не отдавая предпочтения, пока Леша Сдобников за нашим столом не запел свою любимую:
В далекий край товарищ улетает.
Родные ветры вслед за ним летят...
Петя Грачев присоединился к нему, мелодию подхватил баян.
Пройдет товарищ все фронты и войны,
Не зная сна, не зная тишины.
Любимый город может спать спокойно,
И видеть сны, и зеленеть среди весны.
Не пел только Борис, хотя песни он любил. Голос у Комарова был не сильный, но красивый, душевный.
Когда песне стало тесно в помещении и она прорвалась через наглухо замаскированные окна, наш бывший запевала встал из-за стола и направился к выходу.
Я вышел вслед за ним в безлунную тихую ночь. На свежем воздухе голова слегка кружилась.
Мы закурили и некоторое время шли молча. Из прилегающего лесочка тянуло прохладой, пахло хвоей.
- Ночь-то как хороша...
- Темноватая только, - согласился Борис,- а то бы как у нас на Урале.
Упоминание о родных краях грустью разлилось по жилам, сердце защемило: "...придется ли повидать их?"
- Просто не верится, что где-то под боком война, - задумчиво произнес Комаров.
- Смотри, Борис, какая красота...
- Жизнь! Что она значит на войне? Прихлопнули, как муху, и нет ее. А ради чего?
- Чудак, во имя справедливости. Мы ведь фашистов бьем.
Я хотел было разразиться целой тирадой, но он перебил:
- Выходит, чтобы жить, надо убивать? Так, что ли? Но это же звериный закон!
Комаров бросил окурок и старательно затоптал его. - Слушай, Борька, не пори чепуху. Как ты считаешь, ради чего погиб Коля Яковлев и другие наши ребята? Они защищали Родину, спасали людей. Такая смерть оправданна и благородна. Другое дело - кто послал тех, что принесли на нашу землю смерть и разрушения. Мы и это с тобой прекрасно знаем - фашизм. Вот оно, звериное нутро, откуда исходят все беды. Так что уподобляться мухе не стоит.
Дорога круто свернула в лесную посадку. Темнота сгустилась. Выбрав на ощупь сухое место, мы расположились на траве. Борис сидел сгорбившись, уткнувшись подбородком в колени. Неожиданно мне пришла в голову мысль поговорить с Комаровым о его последнем вылете, но, едва собравшись, я тут же передумал и ляпнул:
- А интересно было бы посмотреть на живого немца. На врага, понимаешь? На кого он похож? Как выглядит?
- Я видел. И очень близко.
- Разве? Когда же?
- В первый раз, когда сбил "каракатицу". И до сих пор не могу забыть об этом, - грустно заметил он.
- А-а, - разочарованно протянул я, - так это же самолет, - таких немцев я каждый день вижу.
Но Комаров уже не слушал меня.
- В этом самолете был живой человек, и я видел его, как тебя сейчас. Когда я прицелился в него, он посмотрел в мою сторону. Я увидел его глаза; они умоляли меня: "Не убивай". Рука моя дрогнула, но было уже поздно пулеметная очередь скользнула по крыльям и прошила кабину...
Я внимательно следил за ходом его мыслей, еще не понимая, зачем он все это рассказывает.
- Кто этот летчик? Немец, румын? Неважно. Наверное, у него, как и у меня, есть мать, может быть, семья. Пока летел до дому, я все пытался понять - что же произошло? Убийство?
- Не ты его, так он тебя, - возразил я. - А сколько вреда он нанес бы нашим пехотинцам!
- Второй раз - позавчера; мы налетели на них внезапно и начали расстреливать, как стадо баранов.
- Петька мне расписывал. Здорово вы их погоняли. И про зенитки тоже.
- Не знаю, что он тебе расписывал. Последнее время Грачев дуется что-то, злющий ходит, как черт. - Борис говорил глухо. - С чего - не пойму. Но я тогда не стрелял.
Борис всегда был очень искренним. Я чувствовал, что ему хочется излить душу, выговориться.
- Зенитки мешали? - спросил я.
- Нет, я их даже не видел. Зажег одну машину, а по живым людям...
Он долго молчал, потом потянулся за другой папиросой.
- А тут еще мотор забарахлил, - словно оправдываясь, закончил он.
Такое признание меня озадачило.
Неужели только из-за этого Борис уходил с поля боя, пользуясь любым предлогом? С одной стороны, я сочувствовал ему: расстрелять повозку или машину психологически гораздо легче, чем убить живого, противника. Как-никак люди... Но только необходимость заставила нас смертью попирать смерть.
Не к каждому сразу приходила ненависть к фашизму, а вместе с ней смелость, мужество, стремление к победе - все то, что вытесняет страх перед врагом, а порой и совсем заглушает его.
У таких, как Грачев, Селиверстов, Фигичев, это само собой подразумевалось: "Враг! Уничтожай - и никаких гвоздей!" У других к такому настроению примешивался боевой азарт.
Конечно, мы не могли еще тогда знать, что значит фашизм, какое горе он несет в наш дом..
Но уйти с поля боя под первым благовидным предлогом, бросить товарищей только потому, что испытываешь отвращение к смерти, да к тому же еще и жалость к врагу!.. "Борис смалодушничал, - думал я,- это почти ясно. Малодушие, как трясина: не возьмешь себя в руки - увязнешь. Малодушие и страх- одного поля ягоды. С ними бороться трудно".
Но в этот момент я не знал, как вести себя. Сказать Борису прямо обидится, замкнется еще больше. Безучастным оставаться тоже нельзя.
- Жалко, значит?
Он промолчал.
- А я уверен: фашисты о таких вещах не размышляют. Сам прекрасно знаешь, как нашим от них достается.
- Знаю. Но я знаю и другое: день Победы отпразднуют без меня.
- Брось ты, Борька. Разве можно теперь об этом думать?!
- А сам ты не думал об этом?