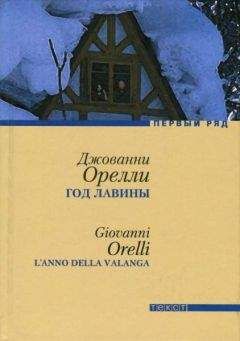Ирина Муравьева - Жизнь Владислава Ходасевича
Окончательное решение, как это почти всегда бывает, далось очень трудно. Оставить Нюру казалось невозможным после всего пережитого вместе, его терзали муки совести, чувство вины. Но и без Берберовой он уже не мог. Позже, в эмиграции, Ходасевич написал своему приятелю, историку М. М. Карповичу: «Очень тяжело далась мне и ей наша разлука. Но жить вместе стало немыслимо уже давно. Нина Николаевна только повод, а не причина нашего разъезда».
Все чаще на фоне всех мрачных настроений, одолевавших обитателей Дома искусств, особенно после расстрела Гумилева и всех участников Таганцевского заговора, возникали мысли о том, что надо уезжать из России. Нюра вспоминает, что еще раньше Ходасевич спросил как-то ее: «А ты со мной поехала бы за границу?» «Я ответила совершенно спокойно: „Нет, я люблю Россию и надолго с Россией не расстанусь. Поехать на один-два месяца — с удовольствием“. Этому разговору я не придала большого значения и сделала это напрасно».
Теперь он собирался за границу с другой. Предотъездные события ускоряют ход.
Внутренняя связь с Ниной становится все крепче. Свидетельство тому — стихотворение «Улика», где нечто нездешнее существует рядом с такой простой вещью, как женский волос на плече, замеченный гостем:
Была туманной и безвестной,
Мерцала в лунной вышине,
Но воплощенной и телесной
Теперь являться стала мне.
И вот — среди беседы чинной,
Я вдруг с растерянным лицом
Снимаю волос, тонкий, длинный,
Забытый на плече моем.
Тут гость из-за стакана чая
Хитро косится на меня.
А я смотрю и понимаю,
Тихонько ложечкой звеня:
Блажен, кто завлечен мечтою
В безвыходный, дремучий сон,
И там внезапно сам собою
В нездешнем счастьи уличен.
По поводу этого стихотворения автором написан самый прозаический краткий комментарий: «7–10 марта. 7 марта была Н. Потом пришел Верховский (поэт и переводчик), читал сонеты и пил чай».
«Нездешнее счастье» — оно существует, пусть в «безвыходном, дремучем сне», но им невозможно пренебречь.
Нюра уже поняла, осознала свое горе, но все еще не может с ним примириться.
Вот авторский комментарий к стихотворению «Покрова Майи потаенной…», полтора месяца спустя: «23–24 апреля днем, под ужасную истерику А. И.» (то есть Нюры). Довольно страшная картинка: рыдает женщина, которую поэт собирается оставить, а он, видимо, все уже сказав и не желая слушать все повторяющиеся обвинения, сидит и пишет стихи, и уходит в это занятие с головой — стихи получаются совсем неплохие.
А 30 апреля он вместе с Нюрой последний раз в театре, на любимой с детства «Жизели», в результате чего написаны стихи, которые уже цитировались, и автокомментарий к ним: «1 мая, утром в постели, больной, под оглушительный „Интернационал“ проходящих на парад войск. Накануне был с А. И. на „Жизели“, она плакала все время. Это — мои последние стихи, написанные в России <…>». Речь идет о стихотворении «Жизель».
Уж наверно, Нюра плакала не о судьбе Жизели. «Счастливый домик» рухнул. По-видимому, все уже решено…
Он уехал в Москву устраивать свои литературные дела, но главным образом хлопотать об отъезде за границу, о чем пока Нюре ни слова. 15 мая он пишет из Москвы:
«Анюта, милая, с Белицким все развалилось. Сумский не приехал. Сам он поехал в Петербург, а оттуда за границу.
Копельман книг больше не покупает. „Дельфин“ даст ответ послезавтра <…>. Кажется, с ним тоже ничего не выйдет. Тогда буду хлопотать через Когана в Госиздате, но это вряд ли — не подойдет по направлению. Если и это не выйдет — буду выдумывать еще ч<то>-ниб<удь> (Речь идет о судьбе сборника „Тяжелая лира“. — И. М.).
Дал стихи Лидину для какого-то альманаха. Получу деньги — пошлю тебе. Но будь экономна: мне здесь приходится тратить на завтраки и на папиросы, что безумно дорого.
Покоя душевного у меня мало. В ужасе я от предстоящих наших трудностей, которые вызовут безделье — безденежье — болезни — ссоры — ужас.
Анюта, я тебя умоляю, спокойно и твердо ответь мне на мое предыдущее письмо. Не думай и не говори мне ни о каких смертях. Но, по-моему, нам лучше жить порознь. Обещаю тебе каждый день бывать у тебя, заботиться о тебе столько же, как заботился. Буду делать это не по „долгу“ (на „долг“ человека не хватит долго), а по любви. Ибо моя любовь и нежность к тебе неизменны и не прекратятся, если мы не будем изводить друг друга, как изводим. А не изводить при создавшемся положении нельзя. Будь же человеком, а не ребенком. Меняйся внутри, не упрямься, не упирайся. Расти.
Вот все, что я думаю пока. <…>
Целую тебя крепко. Владя».
Нюра пишет мужу то отчаянные, истеричные, то более спокойные, но полные упреков письма.
18 мая он снова шлет ей письмо из Москвы:
«<…> Ну, к чему бегать от Серап<ионов> и с бала из-за Нины Ник<олаевны>? Не сидеть же ей дома. Пожалуйста, веди себя с достоинством и не содрогайся, и не изливайся ни перед кем. На Нину не фыркай. Впрочем, боюсь, что мои советы запоздали, и ты уже нафыркалась. <…>
Внутри же тяжело, трудно, мрачно. Писать не хочется. <…>
Я люблю тебя и люблю. И буду любить всегда, что бы ни было. Но ты сама никого не любишь, потому и думаешь, что любить — значит баловать. Как думают все дети. Ты же можешь веселить, баловать, тешить: детей, в которых еще нет лица. Лица же взрослого человека ты не видишь, стираешь его, уничтожаешь (то же и себя: я уничтожилась, меня нет — это твои слова) — насилуешь. Это грех ужасный, когда делается сознательно. <…>
Напрасно ты пишешь, что я „глумлюсь над тобой“, надеясь на рост и покой. <…> …все будет хорошо, насколько это мыслимо на земле, на которой если хорошо что — так не я, не ты, и никто, а деревья да небо.
Не думай, что мне легко и весело. Мне чрезвычайно тяжело, я никого не могу и не хочу видеть. <…>».
Но Нюре еще тяжелее, ей действительно очень тяжело, и она никак не может оправиться. На одном из писем Ходасевича она делает надпись: «Сжечь». Но все-таки не сжигает, оставляет для потомства. О ее состоянии свидетельствует, как отзвук, письмо Ходасевича от 1 июня (ее письма этого периода не сохранились):
«Милая Анюта, я долго не писал, потому что 27 числа получил твое коротенькое, но безумное письмо. Отвечать на него нельзя. Потом получил хорошее, но как-то не мог наладиться, чтобы писать. Сегодня — 2-е хорошее — и вот пишу.