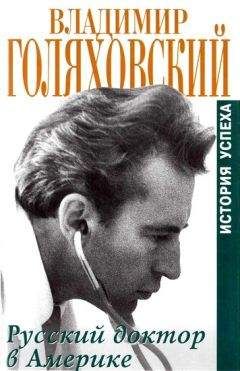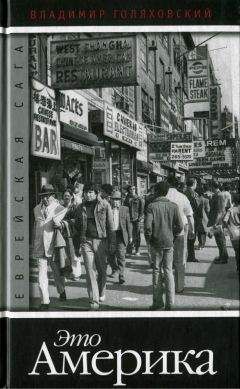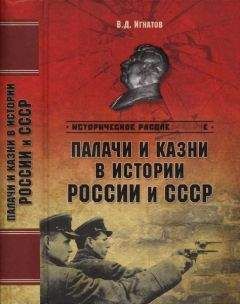Владимир Голяховский - Путь хирурга. Полвека в СССР
— Ну, чего, дура, сопротивляешься? Небось не целочка, подумай о будущем.
Задыхаясь, она выбежала в коридор позади зала и встала у окна, переводя дыхание. Когда она вошла в мастерскую, то чувствовала, что мастерицы смотрели на нес с усмешкой. Женя не знала, что делать. Она механически взяла в руки розовую гребенку с ближайшего стола. Отвернувшись к окну, чтобы не видели ее слез, она нервно сгибала и разгибала гребенку. Крак — гребенка с треском сломалась в ее руках.
— Ты чего это сделала с моей гребенкой? — закричала мастерица. — А? Для чего? Говори!
Другие мастерицы включились:
— Она это нарочно.
— Какая нахалка!
— Она думает, что лучше всех!
— Польская шлюха!
На шум прибежал заведующий:
— Чего вы разорались?
— Вот, эта ваша польская шлюха — она сломала гребенку!
Воспользовавшись моментом, он крикнул Жене:
— Так ты так, да? Снимаю тебя с экзамена — ты уволена!
Обозленная, обиженная, обескураженная, Женя крикнула:
— Ну вас всех в жопу! — швырнула гребенку в лицо заведующему, сорвала с себя халат, бросила его на пол, схватила пальто и выбежала на мороз.
Ее душили обида и бессилие. Она шла в темноте вдоль железной дороги, и ее пронзила мысль: единственно правильное — это броситься под поезд. С того момента она была занята одним — как это сделать. Приближался шум поезда, она приготовилась к прыжку, но в последний момент в страхе отпрянула перед грохотом громадных колес. Она была так напугана, что не заметила, как приблизился второй поезд. Хотела кинуться к середине состава, но опять испугалась. И тогда возникла новая мысль: я струсила!.. Я не смогла это сделать, потому что струсила!.. Значит, я трусиха!.. Эта мысль билась в ее висках. Ей стало противно — у нее даже не было смелости сделать то единственно правильное, что спасет ее от мучений жизни. И под влиянием этой мысли она бросилась под колеса третьего поезда… Очевидно, ее молодое и сильное тело сопротивлялось этому — ей отрезало только ноги… только ноги… только…
Женины культи зажили. 8 марта, в Международный женский день, она впервые встретила меня улыбкой. Я заметил, что она причесана, ногти на руках покрыты красным лаком, и от нее пахло духами. Все это приносили ей бывшие сослуживцы, хотя она продолжала отказываться разговаривать с ними. Они объясняли мне:
Да разве ж мы могли подумать…
— Да если бы мы знали…
— Да ведь та гребенка-то была старая и даже с трещиной…
— Да мы и того заведующего прокляли и выжили…
Известно, что русские души жалостливы и отходчивы, только зачастую проявляют это слишком поздно.
В день своей первой улыбки Женя спросила:
— Братик, что будет со мной, когда меня выпишут из больницы?
— Знаешь, сестричка, это еще не решено.
— Не решено? А что вы всегда делаете с такими инвалидами, как я?
— Ну, это по-разному.
Вообще-то я знал: заведующая Дора сказала, что если Женю не заберет ее мать, то скоро надо будет переводить ее в инвалидный дом. Вздыхая, она рассказала, что это за дом — изолированная в лесу от города колония настоящих обрубков и отбросов общества: глубокие инвалиды становились там ворами, преступниками, алкоголиками и развратниками, зараженными всеми венерическими болезнями.
В другой раз Женя сказала мне:
— Ты меня обманываешь, братик, не хочешь сказать правду. Я сама уже слышала про инвалидный дом, куда вы меня отправите. Знаешь, недавно я звонила маме. Целую неделю я не могла соединиться с ней в Воркуте, но наконец дозвонилась по вызову. Я сказала ей, что выхожу замуж за офицера Владимира, с польской фамилией Куляковский. Я немного изменила твою фамилию. Ты на меня не сердишься?
Ну как я мог сердиться на бедную девушку, так сильно обиженную судьбой? Все-таки у нес хватило фантазии успокаивать мать. А она продолжала:
— Я сказала, что мы уезжаем на Сахалин, и просила не искать меня, потому что у мужа секретная служба. Ведь у военных всегда секреты. Еще я сказала, пусть она старается уехать домой в Польшу, а я потом навещу ее. Чего я только ей не врала, даже — что много танцую с Владимиром в офицерском клубе. Знаешь, я так завралась, что сама представила себя танцующей с тобой, а ты был в папином офицерском мундире. Хорошо, что другие в больничном коридоре не понимали, потому что я говорила по-польски. Мама и плакала, и радовалась. Я хотела отослать ей обратно этот папин мундир, но она просила меня подарить его моему мужу.
В первый теплый день я вывез Женю на каталке в больничный двор, а сам пошел оформлять ее на выписку. Через окно я видел, как ее обступили молодые мужчины — наши больные на костылях и в гипсовых повязках. Она восседала на каталке среди них как королева, поворачивала красиво причесанную голову во все стороны и весело смеялась.
Вечером накануне ее выписки я сидел один в комнате дежурного и услышал, как Женя старалась въехать ко мне на единственном нашем колесном кресле. Я открыл дверь и помог ей. На ее культях лежал какой-то сверток.
— Закрой дверь, братик, и поцелуй меня.
У нее томно блестели глаза и в лице была готовность страсти. Я наклонился над ней и поцеловал в щеку.
— Нет, не так, не так, — прошептала Женя.
Она обхватила меня и впилась влажными губами в мои. Она изгибалась всем телом и прильнула ко мне горячими упругими грудями и животом:
— Я хочу сделать тебе и себе подарок — это будет подарок нам вместе, один раз…
— Но ведь ты мне как младшая сестренка.
— Не думай обо мне так.
— Но это лучше для нас обоих.
— Ты мне всегда нравился. Я давно заметила тебя в парикмахерской.
— А я и не знал.
— Теперь ты знаешь, — она крепко прижималась ко мне тазом, повиснув на мне и обхватив культями.
Вот какая ужасная ситуация! — се просящее тело возбуждало во мне желание, но я не мог, не мог себе это позволить: перед моим мысленным взором стояли культи ее ног.
— Нет, Женя, нет, не надо…
— Надо, надо, надо! Я это не теперь, я об этом давно мечтала, я так хочу..
— Женя, я могу любить тебя только как сестру.
Она резко отстранилась от меня, упала в кресло и отвернулась в сторону, содрогаясь от рыданий. Что говорить? Я гладил ее руку. Не поворачиваясь, она протянула мне сверток:
— Это мундир моего отца — для тебя.
— Но, Женя, это же твоя единственная память о нем.
Тогда она медленно повернулась и посмотрела мне в глаза:
— Память? Ты говоришь — память?.. А ты сам, ты дал мне память?.. А я-то хотела хранить твою ласку как память. Это была моя последняя мечта в жизни. Я даже маме сказала, что я уже спала с Владимиром. Нет, теперь мне не нужна никакая память. Что мне помнить? Вы, советские, вы убили моего отца, как собаку; вы топтали мою маму, как дерьмо; а теперь загнали меня, безногую, в угол, как крысу. И ты тоже — советский. Поэтому ты и не захотел меня.