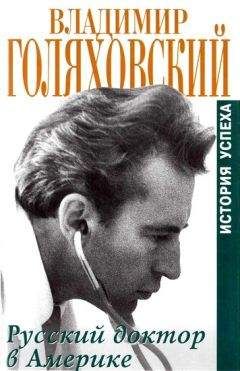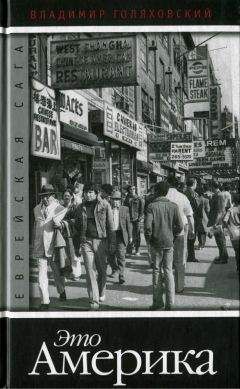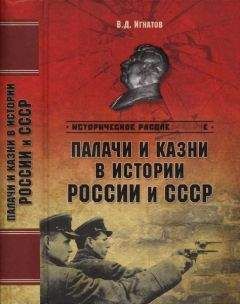Владимир Голяховский - Путь хирурга. Полвека в СССР
Передо мной и надо мной качались и шумели могучие ветви карельских елей. Кое-где я видел следы лосей, волков или лис и маленькие продолговатые следы зайцев. Иногда из-под сугроба с шумом вылетала перепелка. Иногда вдали гулко раздавались выстрелы охотников. Мне, городскому жителю, все это было внове, все меня поражало своей необычностью, все вдохновляло на что-то, чего я сам не знал. Я забывал про голод и холод, чувство было такое, что впереди меня ждет что-то очень радостное. Но что?..
Я возвращался (темнело рано), вносил в свою комнату охапку заранее нарубленных мной поленьев и растапливал печку. Ольга Захаровна, хозяйка, грела мне обед и приносила большую тарелку густого мясного борща с мозговой костью (мясо я доставал у знакомого продавца, которого лечил). Я ел под музыку Сибелиуса или Чайковского, все мои мышцы отходили от тепла и сытости. Потом садился за письменный стол и писал стихи. И как-то само собой получалось, что писал я для детей:
На снежной пушистой постели,
Помятой следами зайчат,
Уснули красавицы-ели
И сосны могучие спят.
В берлоге медведь косолапый
Всю зиму проспит до весны,
Сосет он во сне свою лапу,
И видит он сладкие сны.
И только голодные волки
Добычу выходят искать,
Но спят все ребята в поселке,
Пора и тебе засыпать.
А вырастешь сильным и смелым
И тайны лесные поймешь —
Охотником станешь умелым,
За зверем по следу пойдешь.
Неподалеку от моего дома, на той же улице, на деревянном двухэтажном доме была вывеска: «Союз писателей Карело-Финской ССР» и пониже: «Редакция журнала «Дружба».
Собрав вместе несколько стихов, я перепечатал их на своей старенькой печатной машинке и понес в тот дом. Никого я там не знал, первый сидевший за столом молодой человек оказался секретарем редакции журнала и поэтом, его звали Марат Тарасов.
— Добрый день, я принес несколько своих стихотворений.
— А, покажите, — пока он быстро, профессионально пробегал их глазами, я с волнением думал: «Возьмет или не возьмет?»
— Так. Голяховский — это настоящая фамилия или псевдоним?
— Настоящая фамилия.
— Что ж, стихи хорошие, думаю, что редколлегия согласится их напечатать.
У меня отлегло от сердца, настороженность сменилась радостью. Он расспрашивал:
— Вы откуда? Живете в нашем городе? Чем занимаетесь?
— Я хирург республиканской больницы. Раньше жил и учился в Москве.
— Хирург? Режете, значит?
— Нет, делаю операции.
— Ну, это все равно. Раньше печатались?
— Только в многотиражной институтской газете. Но мне Михалков рекомендовал писать для детей.
— Михалков? Сам рекомендовал? Я доложу на редколлегии. Знаете, у нас есть пионерская газета, отнесите туда несколько стихов. Я им позвоню и порекомендую их напечатать.
Я отнес стихи и туда. И вскоре их напечатали. И еще: мне заплатили первый гонорар — 148 рублей. Это было больше, чем за три ночных дежурства без сна.
Так начиналось мое поэтическое признание — романтика карельской природы помогла мне стать печатаемым поэтом. Нечего и говорить, что первые напечатанные стихи я отправил в два места — родителям и Ирине.
Баллада о сломанной гребенке
Приблизительно в ту же пору я заметил в городе одну красивую девушку, она работала в парикмахерской, в которую я ходил стричься. К сожалению, работала она в женском зале и я не мог с ней разговориться. Но пока я сидел в очереди в мужской зал, я наблюдал за ней в открытую дверь или когда она проходила мимо. Меня завораживала ее высокая фигура, обтянутая халатом, — она двигалась. слегка откинув назад торс; мне нравились ее длинные темные волосы, волнами спускавшиеся на плечи, тонкое удлиненное лицо с пушистыми ресницами. В ее внешности и манере двигаться было отражение чего-то неуловимо нерусского. Но особенно затаенно я любовался ее стройными ногами в тонких шелковых чулках с модными тогда удлиненными черными пятками. Женские ноги всегда волновали меня больше всего. Я услышал, что ее зовут Женя, — больше ничего. Пару раз я замечал се на улице в компании офицеров. Она очаровательно им улыбалась.
Однажды на моем дежурстве Женю привезла в больницу скорая помощь. Я не узнал се — лицо было бледное и грязное, волосы взлохмачены. Да я и не всматривался — у нее был настоящий шок от потери крови, пульс почти не прощупывался, кровяное давление было критически низким. Она была без сознания, только стонала. Привезший фельдшер сказал, что она бросилась под поезд. Колеса оторвали ей обе ноги на уровне колен, осколки сломанных костей торчали из грязных ран. Всю ночь мы со старшим дежурным лечили се от шока, а на рассвете сделали ампутацию обеих ног выше колен, чтобы суметь зашить кожу в стороне от повреждения. После этого я вывез се на каталке в палату и вместе с сестрой переложил на кровать. Приподнимая ее за плечи, я впервые вгляделся в лицо, и оно показалось мне знакомым. Когда я взял историю болезни, чтобы записать операцию, то увидел имя — Евгения, фамилии была польская — Крочковская. Тогда только я понял, кого я лечил. На меня так это подействовало, что я не мог писать — руки стали дрожать. На операции они не тряслись, а теперь просто ходили ходуном. Я лег на кровать в комнате дежурных, и меня всего затрясло так, что стало подбрасывать. Никогда раньше я не испытывал ничего подобного — это был настоящий психологический шок. Немного погодя я впал в сон, и мне причудилось, что Женя проходит мимо меня на своих красивых ногах. Незнакомый с ней, я в тот момент думал о ней как о ком-то родном.
И действительно на следующий день она стала моей сестрой по крови. Ей нужно было переливать кровь, а она отказывалась. Она отказывалась от всего, отказывалась говорить и лежала с закрытыми глазами.
— Женя, послушайте меня — ведь я хочу помочь вам.
После долгих уговоров, не открывая глаз, она прошептала, как бы сама себе:
— Неужели я не умерла? Мне надо было умереть. Я хочу умереть, я должна….
— Женя, вам надо перелить кровь, дайте вашу руку.
— Кровь? Нет, я не дам.
— Женя, это совершенно-совершенно необходимо.
— Необходимо? Для чего — чтобы жить? Нет, я не хочу жить, я должна умереть.
— Женя…
Еще и еще я, заведующая отделением и сестры, мы все разговаривали с ней — без ответа. Наконец она прошептала:
— Я — полька. Если мне переливать кровь, то только польскую. Русскую — я не дам.
Как раз накануне того дня я добровольно сдал пол-литра крови по призыву станции переливания — у них не хватало запасов крови, а я был комсомолец и должен был показать пример другим. Фамилия моя звучит по-польски, потому что род моей мамы сто лет назад вышел из Польши. Со станции переливания принесли две стеклянные ампулы с моей кровью.