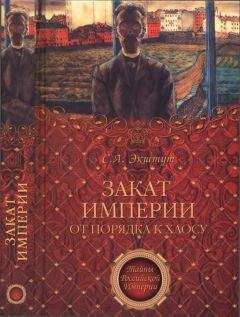Вениамин Каверин - Эпилог
VIII. Первый съезд
1Четвертый съезд советских писателей газета «Унита», орган Итальянской коммунистической партии, назвала «съездом мертвых душ». Первый съезд, разительно не похожий на все последующие, можно смело назвать «съездом обманутых надежд».
Я был членом ленинградской делегации, возглавляемой Тихоновым. В своей статье «Несколько лет», рассказывая о Первом съезде по просьбе редакции «Нового мира», я писал о том, что у Дома союзов студенты и молодые рабочие нас встретили с цветами, — это было трогательное начало. Но я не упомянул о том, что в подъезде и у каждой двери, ведущей в зал, стояли, проверяя делегатские билеты, чекисты в форме. Их было слишком много, и кто-то из руководителей, очевидно, догадался, что малиновый околыш как-то не вяжется с писательским съездом. На другой день билеты проверялись серьезными мужчинами в плохо сидящих штатских костюмах.
Когда я работал над статьей «Несколько лет», «внутренний редактор» не колеблясь вычеркнул эту, на первый взгляд незначительную, подробность. Между тем она характерна. Она говорила о том, что в основе отношения партии к литературе лежит недоверие. Точно так же поступил «внутренний редактор», заставив меня повторить, что о съезде можно рассказать только в общих чертах. «Одни выступления были посвящены литературе как искусству, — писал я под его диктовку, — другие — долгу писателя, его позиции в литературе». Наделе те писатели, которые пытались подменить свой долг перед литературой идеей служения социалистическому государству, либо ошибались, либо лгали.
Желание сказать «почти правду», на деле скрывая ее, особенно характерно для тех страниц моей статьи, которые посвящены съезду. И это не случайно. Вопреки своему назначению Первый съезд был и остался светлым воспоминанием. Панорама нашей прозы и в особенности поэзии оказалась внушительной, многообещающей. Что касается назначения, которое для меня прояснялось только через десятилетия, оно, без сомнения, заключалось в том, что партия, отобрав у РАППа право и возможность распоряжаться в литературе, отдавала их профессиональным писателям, на которых можно было положиться. Таких, как и следовало ожидать, оказалось много.
Что заставило Тихонова так торжествовать, называя членов почетного президиума?
«Молотов, — говорил он, окидывая зал радостно-удовлетворенным взглядом, — и после небольшой, но значительной паузы: — Каганович!..»
Был ли он искренен? Думаю, что да. Делегаты должны были испытывать счастливое чувство, зная, что в президиуме состоит сам Сталин, и Тихонов от имени съезда с гордостью демонстрировал это чувство. Шкловский, стоявший за моей спиной, — мы чуть-чуть опоздали, — сказал пророчески:
«Жить он будет, но петь — никогда».
Союз писателей существовал и до Первого съезда. Административная зависимость от него уже давно выхолащивала живую литературу. Теперь она определилась, сложилась полностью. Теперь перед новой организацией была поставлена государственная задача: с помощью художественного слова доказать, что на свете нет другой такой благословенной страны, как Советский Союз. Как ни странно, исторический опыт придавал этой задаче определенный смысл: разве не оказали католицизму бесценную поддержку Микеланджело и Леонардо да Винчи? Но опыт устарел, и никто им не интересовался, тем более что новый католицизм был нимало не похож на старый. Вместо того чтобы направить литературу по предуказанному пути, Союз писателей занялся развитием, разветвлением, укреплением самого себя, и это сразу же стало удаваться.
Я был свидетелем, как он в течение десятилетий терял связь с литературой. Я безуспешно пытался указывать его руководителям те редкие перекрестки, где жизнь этой организации сталкивалась с подлинной жизнью литературы. Все было напрасно. Да и кто стал бы прислушиваться ко мне? Союз разрастался, превращаясь в министерство, порождая новые формы административного устройства. Разрастаясь, размножаясь — с помощью элементарного почкования, он породил огромную «окололите-ратуру» — сотни бездельников, делающих вид, что они управляют литературой. Между понятиями «писатель» и «член Союза» давным-давно образовалась пропасть.
Когда Бернард Шоу приехал в Ленинград, он на вокзале спросил первого секретаря (вероятно, Прокофьева), сколько в городе писателей.
«Двести двадцать четыре», — ответил секретарь.
На банкете, устроенном в «Европейской» гостинице по поводу приезда Шоу, он повторил вопрос, обратившись к А.Толстому.
«Пять», — ответил тот, очевидно, имея в виду Зощенко, Тынянова, Ахматову, Шварца и себя.
2Первый съезд открылся трехчасовой речью Горького, утомительной — он начал чуть ли не с истории первобытного человека. Слушая (или не слушая) его, я вспомнил нашу последнюю, недавнюю встречу.
Существенным в ней было то, что она была устроена не Горьким, а для Горького и чем-то напоминала самодеятельные представления, которые время от времени разрешались обитателям лагерей.
Меня удивило разнообразие приглашенных: здесь были писатели — кроме меня Тихонов, Леонов, Никулин и кто-то еще, были государственные деятели, и среди них нарком просвещения Бубнов. Были крупные военные — руководитель Осоавиахи-ма Эйдеман, заместитель наркома обороны Гамарник. Была, наконец, какая-то румяная девушка, белозубая, с монгольским лицом, — первая, как выяснилось, якутка, окончившая Московский университет.
Крючкова, секретаря Горького, я видел и прежде, но в тот вечер его отталкивающая внешность особенно поразила меня. У него было красное мясистое лицо, вьющиеся волосы и короткие пальцы, поросшие длинными прямыми рыжими волосами.
Он вел себя мало сказать уверенно: по-хозяйски. Когда садились за стол, он подошел ко мне.
— Это место для Ворошилова, — сказал он, указывая на пустой стул подле меня. — Но он не придет.
Не помню содержания нашего двухминутного разговора. Казалось, Крючков хотел выяснить, не могу ли я пригодиться ему для какого-то, оставшегося мне неизвестным, дела, — выяснил, что не могу, и бесцеремонно ушел. Точно так же он подходил и к другому, и к третьему из приглашенных, а я отчетливо почувствовал, что этот человек глубоко озабочен тем, чтобы все происходило так, как задумано, без отклонений.
Между тем ничего не происходило. Сидели и разговаривали в кабинете. Бубнов рассказывал о строительстве нового драматического театра в Ростове-на-Дону — это были единственные минуты, когда на мрачновато-серьезном лице Горького мелькнул проблеск сочувственного внимания.