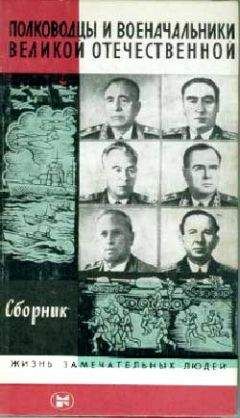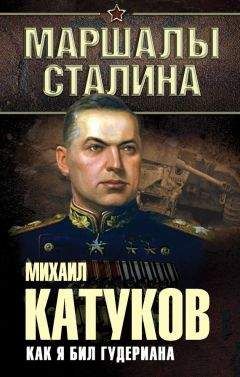Владислав Бахревский - Никон (сборник)
Схватил рясу, натянул через голову.
– Марковна, крест!
Надел крест. Выбежал на улицу. Семен Бабехов, отирая подолом рубахи пот с круглого лица, семенил следом. А в груди Аввакума тоска зашевелилась. Шел размашисто, а куда, и сам не знал. Нога вдруг подвихнулась. Ойкнул. Остановился.
– В Новоспасском, говоришь, сидит?
– В Новоспасском.
Аввакум поглядел на небо, серое, замученное духотой.
– К Стефану Вонифатьевичу надо идти, – сказал себе, больше-то идти было не к кому.
Стефана Вонифатьевича, однако, дома не застали, уехал с царем в Саввино-Сторожевский монастырь. Аввакум пошел в Новоспасский, чтоб поговорить с Нероновым, но оказалось, что бунтаря-протопопа перевели в Симонов.
– Ишь как прячут батьку Ивана! Боятся, значит! – позлорадствовал Аввакум.
В Симонове монастыре встретили жену Неронова и его старшего сына.
– Не пускают к батьке, – пожаловалась измученная тревогой женщина.
– Надо вечерни подождать, – предложил Аввакум и спохватился: – Ты, Семен, оставайся с домочадцами Неронова. А мне на службу. Без батьки Ивана собор – сирота. Отслужу – приду. Людям надо о Никоновом злодействе сказать.
Прихожане все были взъерошенные, уже знали о случившемся.
Анна Михайловна, сестра Федора Ртищева, принесла золотую цепочку да кошелек с деньгами – собиралась вклад сделать, а тут рассерчала вдруг на попов.
– Нет вам денежек! И впредь не будет ничего! Молимся, молимся да и вымолили протопопа Ивана вон! А Иван-то – Неронов!
Служил Аввакум, как в лихорадке. То горячо, а то как в забытьи, не вникая душою ни в слово, ни в действо. После службы люди ждали его поучения на паперти, а он, торопясь к Ивану, сказал только:
– Когда ученики спросили Иисуса Христа, какие молитвы надо знать, он прочитал им «Отче наш». Сия молитва, заповеданная Иисусом Христом, пусть будет в сердце вашем. Помолитесь за батьку да за правду. Авось Господь и даст нам. Не все же неправде рылом кверху меж добрыми людьми похаживать. Соберите подписи, царю народное прошение подадим.
Поклонился людям и поспешил в Симонов.
Перепуганные родичи Неронова бросились к Аввакуму, как к спасителю. Оказалось, протопопа Ивана в церковь на службу не водили, к келье, где сидит, не подпускают, стерегут со свечами.
Аввакум пошел к игумену, а тот не то что приказать, слова вслух сказать не смеет.
– Возле Ивана патриаршие люди, – шепнул. – Они и меня к нему не пустили!
Аввакум перекрестился.
– Антихрист явился в мир, – сказал он игумену. – Пришло время противоборству, и правые призываются пострадать.
– Тихо! Тихо! – замахал руками игумен.
Аввакум улыбался. Ему стало и легко, и ясно, словно гроза дождем разразилась-таки. Он сказал слова Неронова, которые батька добыл постом и молитвой в Чудовом монастыре. Не забылось вещее, а только оглохло в суете. Но вот и приспело времечко, когда уже не до мирских забот. Не свеча Божия над миром – меч, блистающий на все четыре стороны света.
В ту ночь на Аввакума напала странная дрема. Спать не спал, но стоило прикрыть глаза, видел себя голым, стоящим перед Успенским собором. На всей-то площади – один! Собор огромный, он перед ним, как перед горой, и срам нечем прикрыть. Изнемогши от стыда, вырыл ногтями камень из мостовой. Камнем и прикрылся.
Откроет глаза – изба, детишки сопят, Марковна вздрагивает – дите в ней растет, ворочается. Закроет глаза и мозги свои чувствует, тяжеленные, как мера пшеницы, – и опять все та же картина: собор и сам он, грешный, камнем прикрывающий срам.
Многие в ту ночь не спали. Не спал Стефан Вонифатьевич, знавший наперед, что друга его Неронова осудят и уже осудили, стало быть, знал даже место, куда отправят на смирение. Никон назвал царю Кандалакшский монастырь, на лютой Коле. Стефан Вонифатьевич, не веруя больше в свое слово, просил заступничества у царицы Марии Ильиничны. Царь послушал жену, а Никон царя. Назначили Неронову Спасокаменный монастырь на Кубенском озере.
Можно было бы и порадоваться. Да только чему? Силы хватило худшую тюрьму поменять на тюрьму просто худую. И для кого? Для любимца государя – Неронова. О других попах и протопопах говорить нечего. Данилу из Страстного монастыря в Астрахань упекли! А в Астрахани его велено держать, как злого татя, в земляной яме. Стоило ли так далеко посылать человека, чтобы уморить?..
10Утром Аввакум пошел в Кремль повидать братьев. Люди они были здесь малые, однако при царице да при царевнах. Ведь коли хорошо попросить, коли свои, домашние, попросят, может, царь и смилостивится, отведет тучи, обступившие седую голову Неронова.
И вот незадача – ни Евфима, ни младших! Все царское семейство с попами по загородным усадьбам да по монастырям растеклось.
Шел назад призадумавшись. Вдруг крик! Патриаршие стрельцы протащили на Цареборисовский двор, где ныне хозяйничал Никон, пьяненького попа.
Сердце так и екнуло. Совсем еще недавно стыдить пьяницу, вот такого же, кинулся. Вспомнил, как жалели грешника прохожие, как ругали стрельцов. А он – протопоп – был с Никоном заодно. Он и попа-пьянчужку осудил, и жалостливых горожан.
Подумалось: «А пожалеют ли меня?»
И головой завертел, устрашась нежданной мысли. И увидел – стоит он перед Успенским собором. Не один, людей много толчется, а все равно как на духу.
Купола высоко над землей, стены гладкие, каменные. Тысячи людей под стенами этими пройдут – и ничего, двенадцать колен пройдут – и ничего! Ничего с ним не станется. На золотник не убудет.
Ужасом от стен повеяло на Аввакума. Он-то перед ними – живой, хотящий есть и пить, любящий жену, детей, о людях, об их вечном спасении пекущийся.
Маленьким себе показался. Божьей коровкой. Она ведь тоже чего-то хочет. Крылышки блестящие, в крапинку, поднимет – и летит. А куда летит?
Побрел… Ноги вынесли на Москву-реку. Тюкали топоры. Большой мост в который раз уж принялись строить.
«Построят, а самим, смотришь, и ходить по мосту не придется, – подумал о строителях Аввакум и тотчас утешился: – Другие будут ходить. Детишки наши. А они устроят что-то доброе для своих детишек… Так уж ведется промеж людей. – И на себя все это повернул: – Я-то что для будущих выстрою?»
Домой притащился разбитый. Есть не стал, молиться рука не поднялась. Лег. Что-то тяжело было. Марковна на последнем месяце, а все хлопочет, все прихорашивает гнездышко. Пеленки припасает, чепчик учит Агриппинку шить. Рожать ей, а он – мужик – изнемог. Подосадовал на себя – что, если бы мужики рожали? Глядишь, и род человеческий перевелся бы!
Задремал. Тотчас и взбодрился.
– А схожу-ка я, Марковна, в деревню к дворянину Лазореву. Когда-то я его святым маслом помазал, и полегчало ему. Он у Морозова свой человек. От слез да криков – проку мало. Горе и то перед тружеником отступает. Пойду.