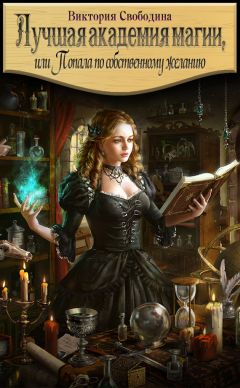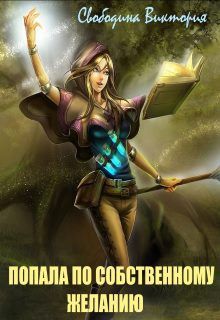Федор Раззаков - Другой Аркадий Райкин. Темная сторона биографии знаменитого сатирика
Отметим, что особенно хорошо Райкина будут принимать в трех социалистических странах: Польше, Чехословакии и Венгрии (руководитель последней – Янош Кадар – даже станет личным другом Райкина). С чем это было связано? В тамошних компартиях были сильны позиции евреев, а последние, как известно, весьма сплоченны. Именно поэтому первый документальный фильм о творчестве Аркадия Райкина был снят не в СССР, а в Чехословакии. Случилось это в 1958 году. А год спустя в той же ЧССР свет увидела и первая большая книга о Райкине – «Человек со многими лицами».
В том же 1957 году Райкин продолжил свое творческое сотрудничество с Владимиром Лифшицем и выпустил с ним новый спектакль – «Белые ночи». Напомним, что это был юбилейный год – 40-летие Великого Октября – и вся советская идеология была нацелена на восхваление круглой даты. Не стал исключением и райкинский театр: его новый спектакль был посвящен сразу двум знаменательным датам – 250-летию Ленинграда и 40-летию Великого Октября. Поэтому первая миниатюра под названием «Путевка в жизнь» обыгрывала революционную тему: ее главными героями были матрос с крейсера «Заря» (А. Райкин) и беспризорный мальчишка (Н. Конопатова). Начало сценки происходило сразу после революции, матрос горячо убеждал мальчишку обязательно пойти учиться: дескать, при новой власти позарез нужны будут образованные люди, с которыми они и построят светлое будущее. Вторая часть сценки уже происходила несколько десятилетий спустя. В ней снова встречались те же люди: бывший матрос и бывший беспризорник. Причем если последний (его роль исполнял Герман Новиков) дорос до звания профессора, то бывший «братишка» так и остался неучем. То есть каждый из героев подошел к своей жизни с разной долей ответственности. Эта тема, кстати, не раз звучала и в прежних интермедиях Райкина: например, в «Жизни человека».
В миниатюре «Скептик» Райкин действовал на сцене один – играл злобствующего либерала-космополита, который бичует все свое, родное, зато хвалит все чужое, заморское (подобных деятелей в те годы в советском обществе появлялось все больше). Выглядел персонаж весьма отталкивающе: лысый череп с узкой полоской волос, лохматые брови, на тонких губах многозначительная усмешка, холодный взгляд недоверчивых глаз. С его уст слетали следующие слова:
«Вот тут все говорят – весна, лето, осень, зима. А где они? Настоящих-то времен года у нас раз-два и обчелся! Вообще, кое-что есть, конечно, но не то, не то». После чего герой Райкина пускался в воспоминания о прошлом: ностальгически вспоминал весну на Дону и лето в Поволжье много лет назад. «Вот это было лето! – восклицал персонаж. – А теперь разве это лето?.. А вот там, у них (и Райкин делал многозначительный жест, который понимался буквально всеми), говорят, есть… Все четыре времени года… как полагается по системе. Зима, весна, лето, осень! А у нас? Нет, есть, конечно, кое-что… кое-что есть… Но… не то!..»
Не обошлось в спектакле и без любимого комического приема Райкина – трансформации. Ее настоящая феерия была показана в миниатюре «Гостиница «Интурист», где артист сыграл сразу нескольких персонажей: экспансивного иностранца в клетчатом пиджаке, театрального администратора с манерами старого одессита, молодящуюся даму, неизменно поправляющую свой бюст (как мы помним, этот жест Райкин «срисовал» у одной женщины, у которой он был в гостях в Риге), пожилого швейцара-бородача, зубрящего иностранные слова.
В другой интермедии – «Жил на свете рыцарь бедный» (автор А. Хазин) – Райкин играл знаменитого идальго Дон Кихота, который переносился в современность. Рядом с ним был его верный друг Санчо Панса (Владимир Ляховицкий), а также две женщины: Дульцинея (Руфь Рома) и хозяйка гостиницы (Виктория Горшенина). По словам А. Райкина:
«Это была прекрасная вещь, одна из самых интересных в спектакле. В ней была масса находок, и постановочных, и актерских. Я играл Дон Кихота на ходулях. У меня были такие высокие сапоги, как теперь говорят, «на платформе», я оказывался под потолком. А рядом Ляховицкий своего роста в роли Санчо Пансы. Исполнял песенку Дон Кихота на популярную тогда французскую мелодию «Парижские бульвары». Я защищал добро, боролся с мельницами, часто оказывался смешон. Это была глубокая сатирическая вещь, поэтому она и оказалась непонятой…»
Эту интермедию действительно часть критиков не приняла, впрочем, как и весь спектакль. Одни заголовки статей в различных изданиях говорили сами за себя: «Ожидания не оправдались» («Комсомольская правда», 8 сентября 1957 года), «Не выходя из коммунальной квартиры» (газета «Смена», 7 февраля 1958 года), «Победы и поражения Аркадия Райкина» («Советская Латвия»). Так, в «Комсомолке» звучал следующий вердикт:
«Есть в спектакле что-то вымученное и незавершенное, какой-то застывший, окостеневший поиск… Время от времени стыдливо возвращается и к белым ночам, и к теме Ленинграда, но скоро и охотно переходит на привычную стезю рассказа о непорядках в пошивочном ателье и семейных неурядицах…»
Вообще время тогда на дворе стояло жаркое, дискуссионное. Хрущев уже окончательно утвердился у власти, выгнав из своего окружения не только своих соперников (Молотова, Маленкова и Кагановича), но и тех, кто помог ему их одолеть (маршала Г. Жукова). Кстати, с удалением Кагановича завершилась эпоха правления евреев в советских политических верхах – их там практически не осталось. Однако иначе дело обстояло в идеологии и культуре, где евреев по-прежнему оставалось много: в кинематографе (самом массовом виде искусств) они составляли почти половину действующего состава, в литературе – меньше половины, в эстрадном искусстве их было подавляющее большинство.
Именно тогда интеллигенция окончательно размежевалась на либералов (сторонников углубления демократии с опорой на западные ценности) и державников (сторонников консервативных взглядов с опорой на русскую почву) и при помощи своих печатных изданий пыталась уличить оппонента в неверных взглядах. В этой борьбе герою нашего рассказа больше доставалось от последних, виной чему была не только его принадлежность к сатире, но и еврейское происхождение (среди либералов большинство составляли именно они). Поэтому, если, к примеру, Райкин бичевал в своих интермедиях какого-нибудь тупого чиновника, носящего русское имя (а иных у него и не было), отдельными державниками это расценивалось как скрытое издевательство над русской нацией вообще. Либералам в этом отношении было полегче: бичевать евреев в советском искусстве было категорически нельзя – это тут же объявлялось антисемитизмом и могло повлечь за собой самые суровые санкции.