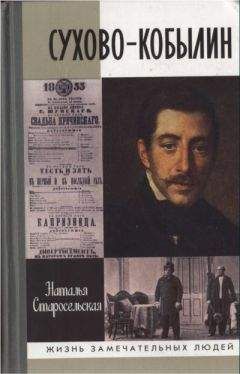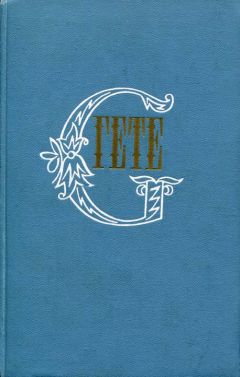Владислав Отрошенко - Сухово-Кобылин: Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга
Он уже несколько раз начинал «отделку набело» и помечал в дневнике, что «пиэсса кончена», но всякий раз, переписывая ее, вставлял новые сцены, переделывал старые, начинал всё заново. Покоя в душе не было. Написанное не удовлетворяло. Работать ежедневно не удавалось.
Во Франции было иначе. Он взял с собой все черновики и уже отделанные сцены — работал каждый вечер. Чувство полной свободы одухотворяло, давало уверенность и силу и в то же время… мешало. Какой-то нереальной, фантастической, совершенно невозможной в действительности казалась эта далекая, исполненная подлости, алчности и беспробудного идиотизма чиновничья Россия. Да неужели же они существуют — живут, ходят, садятся, встают, листают дела, перекладывают бумаги, едят, пьют, мечтают, испражняются — все эти Шерцы, Шмерцы, Тарелкины, Варравины, колеса, шкивы и шестерни российской бюрократии… Сон, сон… Фантасмагория, бред…
«Комедия» временами ему не нравилась: «1858. Сентября 22. Кончил 4-й акт и писал 5-й. Ум спит. Пиэсса кажется мне худою».
В октябре 1858 года, возвращаясь на пароходе в Россию, он вез с собой в багажном отделении винные котлы для спиртовых заводов, гидравлические прессы, насосы, центрифуги, машины для сахарных фабрик и всевозможные агротехнические приспособления, которых он накупил во Франции великое множество. В портфеле из жесткой коричневой кожи с двумя металлическими замками лежала рукопись, на титульном листе которой было выведено крупными буквами: «ДЕЛО». Так теперь называлась «Лидочка».
Он еще никому не читал новую пьесу. И первым, кто ее выслушал от начала до конца, был литературный критик и поэт Аполлон Григорьев. Александр Васильевич познакомился с ним на пароходе. Разговор конечно же сразу зашел о «Свадьбе Кречинского». Аполлон Александрович говорил долго и увлеченно, цитировал наизусть, восхищался, уверял Сухово-Кобылина, что эта комедия — гордость русской литературы, ставил ее в один ряд с «Ревизором» и «Горем от ума». Александр Васильевич, уже относившийся с предубеждением ко всем писателям, был удивлен такими оценками «Кречинского». «Первый литератор, отозвавшийся о нем хорошо как о литературном произведении», — записал он в дневнике.
Девятнадцатого октября, когда они спускались по трапу в серый студеный туман Петербурга, Сухове-Кобылин обмолвился:
— А ведь у меня есть новая пиэсса… Черт знает что, а кажется, неудачная… Сам не знаю, что вышло.
— Что же вы молчали, дорогой Кобылин? С собою?
— Ну да… вот в этом портфеле.
— Сейчас же берем извозчика и едем в гостиницу!
— Это зачем же?
— Читать! Читать!
В этот день все его сомнения исчезли: «Вечером читал Григорьеву свою пиэссу. Мы уселись в тихом номере гостиницы. Первое действие, отделанное почти вчистую, прошло хорошо и ему понравилось.
Черновик пьесы «Дело»Катастрофическая сцена поразила его страшно — он выразился, что произвела в нем нервную дрожь. Относительно эпилога, советовал его сократить и, сделавши вводную сцену, подвести к последней. Вообще же пиэсса произвела тот эффект, который я ожидал. Стало, пиэсса удалась!!! Он умолял меня писать и ругал машины, которые отвлекают меня в другую сторону».
Машины! Они теперь занимали его больше, чем пьесы. Вернувшись из Франции, он сделался едва ли не самым энергичным и прогрессивным промышленником России. Один за другим он возводил в своих имениях заводы — винокуренный, конный, свеклосахарный, лесопильный, спиртовой. Он не останавливался ни перед какими затратами — покупал какие-то «редчайшие в мире» ректификационные аппараты и пневматические мельницы, механические пилы и резаки, изготовленные «из лучшей в Европе» стали Зигерланда. Его управляющие чуть ли не каждый день толклись на станции Скуратово Московско-Курской железной дороги, встречая багажные вагоны с механизмами из Франции, Германии, Англии. С яростной увлеченностью он занимался агрономией, выписывал пачками научные журналы из Европы, читал их от корки до корки и прикладывал все новейшие заграничные изобретения «к нераспаханному и неразгаданному неустройству» наследственных земель, которые ему в изобилии были отпущены судьбой. На его выступления в Императорском русском техническом обществе съезжались именитые промышленники со всей России и аплодировали, подбрасывали вверх атласные цилиндры, когда он, гордо возвышаясь на трибуне, «с чисто апостольским жаром» расписывал преимущества изобретенного им в Кобылинке «способа прямого получения ректифицированного спирта из бражки». И этой бородатой, усатой и увесистой публике он кланялся с удовольствием, раздавая налево и направо, без всякой оплаты схемы своих аппаратов, которые могли в три года озолотить какого-нибудь уездного барина.
Чего ему хотелось?
Богатства? Успеха? Славы? Всё это было.
Хотелось ему другого. Того, чего лишилась душа в ту снежную, вьюжную ночь 1850 года. Покоя и счастья. Забвения боли. И работа, бешеная, кипучая и беспрерывная, давала ему покой и забвение, из которых он жаждал выплавить этот хрупкий и светозарный металл — счастье… Всепоглощающая работа была для него спасительным и упоительным зельем, «пьянством», как ее называл великий и непризнанный им сосед — граф Лев Толстой.
— Я счастлив, когда читаю и работаю без передышки, — говорил Александр Васильевич в те годы.
И он был счастлив. Но только тогда, когда без передышки. Потому что отдыхать было страшнее всего. И когда однажды отец, строго соблюдавший все церковные праздники, упрекнул его в том, что он работает даже на Пасху, он вспыхнул и гневно огрызнулся:
— Я не признаю ни праздников, ни будней! Каждый день он вставал в четыре утра, делал
гимнастику, без которой не мог обходиться со времен сидения в тюрьме, затем одевался в пестрый бухарский халат, в мягкие татарские сапоги, подвязывал волосы тесьмой и шел в лес рубить сучья. А потом — в столярную мастерскую. Пилил, строгал, резал мебель для своего огромного мрачного дома в 30 комнат, «самой угрюмой архитектуры», напоминавшего, как пишет один из тульских помещиков, «длинный сундук, в который кладут приданое купеческим невестам». Целый день до позднего вечера его французская фермерская коляска из дерева, похожая на складной стул, маячила то в поле, то у винокуренного завода, то у конюшен. Везде он поспевал. Налетал как буря. Бегал, горячился, ругался с управляющими, с крестьянами, с мастеровыми, вникал во все коммерческие бумаги, лазил по котлам, ремонтировал машины, руководил стройками, драил щеткой заводских жеребцов.
Если окрестным помещикам случалось заехать к нему в гости, он тут же вел их смотреть свое обширное хозяйство и, не обращая внимания на их унылые физиономии, забывая, что позвал их для сытного обеда и приятной беседы за чашкой кофе с сигарой, долго водил их по полям и заводам, с жаром говорил о новых машинах, беспрестанно повышал голос на рабочих, покрикивал на конюхов, везде показывал свою кипучую энергию. «Вместо фразистого литератора-ученого, насыщенного туманными идеями немецких философов, идеалиста и романтика, — удивлялся интервьюер, приехавший к нему для умной беседы, — я увидел перед собою самого обыкновенного русского помещика “средней руки”, у которого беды хозяйственные — самые большие беды».