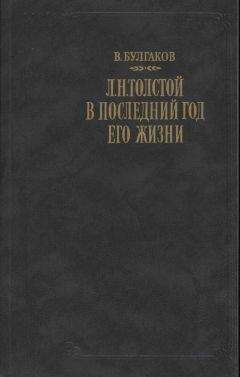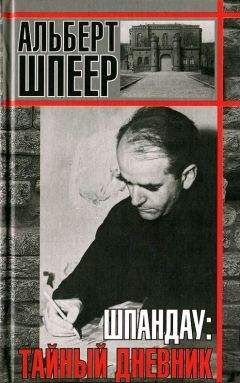Александр Гольденвейзер - Вблизи Толстого. (Записки за пятнадцать лет)
Потом было еще хуже. Сергеенко уходил из комнаты, а когда он снова вернулся и сел около нас, смотря на партию, Софья Андреевна не видала этого и, говоря о чем‑то, по обыкновению жалуясь на хозяйственные дрязги, сказала:
— Когда я избавлюсь от приказчика, воровства, Сергеенко и еще чего‑то — не помню…
Все обомлели. Л. Н. даже застонал. Сергеенко побелел. Кто- то успел шепнуть Софье Андреевне, что он здесь. Она нисколько не смутилась, а только стала говорить, как она жалеет, что не умерла от операции.
Л. Н. взглянул на Сергеенко. Сергеенко спросил:
— Вы хотели, Л.H., что‑то мне сказать?
Л. Н. помолчал и сказал:
— Вы поняли.
Потом еще прибавил:
— Кого Бог любит, тому и посылает.
Было невыносимо. Сергеенко незаметно вышел и, ни с кем не простившись, уехал.
Потом как‑то обошлось. Приехала Звегинцева. Л. Н. разговорился. Он рассказывал про отца Черткова (генерал — адъютанта):
— Когда ему было лет сорок пять, у него на пальце ноги сделалась гангрена. Потом пошла дальше, пришлось отрезать ногу до колена. Он поехал в Англию. Там ему очень искусно сделали ногу, на которой он довольно свободно ходил. Потом сделалось на другой ноге, пришлось отнять и эту, и еще раз — уже выше колена. Он сидел в кресле, и его возили. Он был очень терпелив и не стонал, но целыми днями качался от боли. К вечеру ему впрыскивали морфин; он оживлялся, читал газеты, разговаривал. Это был блестящий, светский, остроумный человек, имевший большой успех в свете. Его и в кресле продолжали возить на балы. На него была даже мода; он бывал у императрицы. В обществе на него приглашали, говоря: «Venez, Mr. Tcherikoff sera ce soir chez nous» («Приходите вечером, y нас будет Чертков»). Он скоро умер. Он ничего не пил и не мог никогда пить, так как ему вино бросалось в голову. Но как‑то за обедом кто‑то пил, и он с ним выпил рюмку водки, и тут же за обедом внезапно умер.
Почему‑то заговорили о клопах, Л. Н. сказал:
— Перна, когда есть клопы, не чешется, а лежит спокойно — дает им наесться, как Будда, отдавший себя на съедение тигрице, — а потом клопы наедятся, и он спит спокойно. А в старину, при крепостном праве, когда помещики жили довольно грязно, и клопы не переводились, если гость оставался ночевать, то на его постель клали сперва лакея, чтобы накормить клопов, а уж потом готовили постель гостю.
Потом я стал около Л.H., и он поговорил со мною. Сначала он, смеясь, подмигнул на колоссальную шляпу Звегинцевой.
Я спросил его, работает ли он над новым «Кругом Чтения». Л. Н. сказал, что уже двадцать первый день делает. Он делает одинаковые числа всех двенадцати месяцев на одну тему. Я сказал ему, что читал первое число и мне показалось очень хорошо.
Л. Н. сказал:
— Да, это все еще надо пересмотреть. Я в начале каждого дня помещаю мысли, доступные детям или народу. Это очень трудно. Я теперь, старый, это делаю, а надо было начать с этого. Надо было писать так, чтобы было по возможности всем понятно. Это и в вашем деле. Да и во всяком искусстве.
Я ему сказал, что в музыке самый музыкальный язык бывает недоступен, независимо от принадлежности к интеллигентному кругу, а в силу непривычки или природной немузыкальности.
Л. Н. отчасти со мною согласился, но сказал, что это и в других искусствах:
— Бывают мысли общепонятные и нужные, но выраженные языком небольшого круга людей. Например, какое- нибудь «Я помню чудное мгновенье» или «Когда для смертного умолкнет шумный день» — вы помните? Этого мужик не поймет.
Л. Н. сказал:
— Я много думал сегодня об искусстве и перечел свою статью, и должен сознаться, согласился со своими мыслями.
Л. Н. читает английскую биографию (Huneker) Шопена. Биография ему не понравилась.
Он сказал мне:
— Я давно не читал такого рода книг. Автор не показывает Шопена — его внутреннюю жизнь, а щеголяет своей эрудицией, своим умением ловко, остроумно писать. Полемизирует и доказывает неправоту других биографов. А Шопена здесь нет… Но все‑таки есть много интересных фактов. Эта жизнь небольшого круга поэтов, писателей, музыкантов — какая развращенная, ужасная жизнь! А Жорж Занд, эта отвратительная женщина!.. Я не понимаю ее успеха.
Мария Николаевна, которая слушала, сказала:
— Нет, у нее есть хорошие вещи. Вот, например, «Консуэлло».
— Нет, не хорошо. Все фальшиво, дурно, скучно, я никогда не мог читать.
29 июля. Л. Н. чувствует себя плохо, нога не лучше. Боли в животе. Софья Андреевна уверяла, что Душан Петрович не так питает Л.H., как нужно. Перед моим приходом вышел у нее со Л. Н. по этому поводу резкий разговор. Я пришел в залу. Л. Н. в кресле обедал и был, видимо, очень расстроен. В комнате были: Николаев, Душан Петрович, Мария Николаевна. Мы стали в шахматы играть. Л. Н. играл вяло. Был расстроен тем, что раздраженно говорил с Софьей Андреевной и беспокоился, что она, очевидно рассерженная, ушла и не заходит в столовую. Я не был при инциденте, но понял, что Л. Н. были неприятны резкие замечания Софьи Андреевны о Душане Петровиче. Л. Н. побыл недолго, попросил, чтобы его свезли к нему в комнату, и больше не выезжал оттуда. Было тяжело.
30 июля. В Ясной были: Мария Александровна (Шмидт), И. И.Горбунов, Евгений Иванович Попов. Л. H. плохо чувствовал себя в смысле пищеварения. Нога все так же. Играли в шахматы. Потом чай пили. Раньше, еще до шахмат — я только что пришел, зашел в залу, — Л. Н. рассказывал Н. Л. Оболенскому, Марии Николаевне и тем, кого я назвал раньше, содержание романа Анатоля Франса, крайне запутанного, преисполненного всяких злодейств. Он называется, кажется, «Иокаста». Л. Н. очень подробно передал содержание, удивлялся нелепости, но говорил, что написано с обычным мастерством Франса.
Когда я только что пришел, я встретил внизу двух людей, желавших видеть Л. Н. Так как Л. Н. болен, к ним пошел Гусев. Один оказался «бессмертником», а другой через Гусева прислал Л. Н. очень странную записку, в которой, ссылаясь на обещание Буланже дать ему какое‑то место, высказывает как‑то нескладно желание быть полезным Л.H.; а в общем — ни цели, ни смысла.
Л. Н. сказал:
— Удивительно! Как это они не понимают?! Им кажется, что на свете только и есть — он да я; а между тем таких, как он, сотни, а я один. И что я могу ему сделать?
О «бессмертнике» Л. Н. заговорил за чаем. Мария Николаевна спросила, что это за секта. Л. Н. сказал ей:
— Бессмертники верят, что если они будут веровать, то никогда не умрут. И если кто из них умирает, говорят: значит, он ошибся… Я очень это понимаю. У них бессмертие отождествляется с телом. На низком уровне религиозного развития это понятно. Церковное учение тоже представляет себе воскресение во плоти.