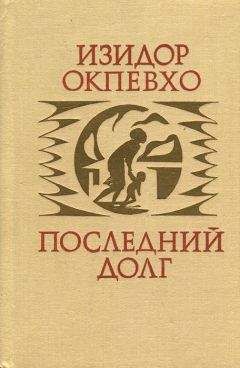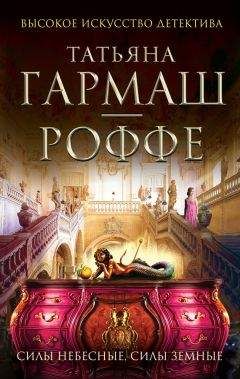Михаил Воронецкий - Мгновенье - целая жизнь
В затягиваемом морозном инеем окне с двумя поперечными переплетами багрово золотились лучи раннего заката, каким-то чудом просочившиеся в глубину заводского двора. Глядя на эти кровянистые морозные узоры, Феликс на какое-то мгновение задумался, перенесясь мысленно в Варшаву, и даже вздрогнул, когда гулко хлопнула нахолодевшая дверь и в «кухню» вошел среднего роста молодой человек в коротком полушубке, папахе и в валенках. А когда вошедший, кивнув Кону, разделся в углу, то Феликс с удивлением увидел, что волосы у него совершенно белые. «Седой!» — сразу же мелькнула догадка. Вот он, значит, какой, этот товарищ Седой. Следом за Седым вошла молоденькая женщина в полупальто с меховой оторочкой, в меховой же круглой шапочке. Тоже молча скинула полупальто и вопросительно посмотрела на Феликса. Серые глаза, припухлые губы. Светлые волосы туго стянуты в небольшой узел на затылке. «Лет двадцать, — подумал Кон, — не больше».
Феликс поднялся навстречу вошедшим, и Доссер представил его:
— Феликс Яковлевич Кон, наш польский товарищ.
— Седой, — крепко сжал руку Феликса молодой человек; его лицо с острыми черными глазами и черными усиками под прямым небольшим носом выражало спокойную уверенность. Седой был в синей косоворотке, застегнутой на все пуговицы, в темном распахнутом пиджаке, под которым тускло поблескивал широкий ремень.
— Начальник штаба боевых дружин Пресни, — сказал Доссер о Седом. — Зиновий Яковлевич Литвин. А эта девушка — секретарь штаба.
— Наташа, — сказала девушка, подавая Феликсу руку.
— Очень рад познакомиться с вами, друзья, — сказал Кон с некоторой приподнятостью в голосе. — Приехал вот опыта у вас поднабраться, ну и кое-что из своего передать.
Кон тогда еще не знал, что Наташа и грозный командир боевых дружин Пресни, за голову которого московский командующий назначил награду в пять тысяч рублей золотом, любят друг друга и решили, если доживут до конца восстания, непременно пожениться.
— Товарищ Болеслав руководил баррикадными боями в Варшаве… — пояснил Доссер, и все четверо подошли к столу, на котором была разложена схема расположения баррикад Большой Пресни.
— Хвастаться-то нам особенно нечем, товарищ Болеслав, — сказал Седой и поднял глаза на Доссера. — Вот если бы восставший Ростовский полк не упустили да вооружили рабочих, тогда бы мы показали, на что способен русский пролетариат…
— Как ни печально, но надо признать, что Петербург оставил Москву без поддержки. Чем это объяснить, я не знаю, — досказал Доссер.
Пресню обстреливали батареи, сведенные на Кудринской площади, на Ходынском поле, на Новинском бульваре, у Зоологического сада… Но особенно губителен был огонь батарей, установленных на возвышении в конце Девятинского переулка, в том месте, где он выходит на Новинский бульвар. В пятистах метрах от этих батарей стояло на взгорье здание мебельной фабрики Шмита, защищенной баррикадой.
Орудия били вдоль Девятинского переулка прямой наводкой, а пункты наблюдения, установленные у Горбатого моста, корректировали огонь. Снаряды один за другим врезались в фабрику до тех пор, пока от здания, пылавшего весь день гигантским факелом, осталась груда почерневшего кирпича. Затем орудия перенесли огонь на Трехгорку и рабочие казармы, прозванные «сибирской каторгой».
17 декабря к вечеру Кон с группой дружинников, «десяткой», лежал на чердаке каменного двухэтажного дома у Пресненской заставы, защищая баррикаду сверху, когда раздался чуть в стороне страшный грохот. Выглянули и сразу же поняли, в чем дело: от прямого попадания рухнула труба Трехгорной мануфактуры, раздавив верхние перекрытия пятиэтажного здания фабрики. Два соседних корпуса пылали, выбрасывая в вечернее небо красно-желтое густое пламя.
Молодой рабочий с Трехгорки по имени Коля, подружившийся с Коном и всюду сопровождавший его, и теперь находился тут же, на чердаке. Высовываясь из-за трубы, он время от времени прицеливался из винтовки, которую взял у товарища, убитого перед утром, прицеливался и, выпуская пулю, приговаривал:
— Ну, вот и еще один гвардеец на счету.
В перерыве между выстрелами Коля приваливался к дымоходу плечом и о чем-то думал. А сейчас, оглянувшись на Кона, которого почему-то считал нужным оберегать, хотя никто ему этого не поручал, проговорил с сожалением:
— Эх, если бы не убил тот мерзавец Баумана, мы бы дело еще круче завернули.
— Да-а, — вздохнул кто-то в темноте, — что и говорить, Николай Эрнестович был бо-оль-шим человеком! — И тут же — голос из темноты, обращенный к Феликсу.
— А скажи, товарищ, как же это так могло получиться, что наши выпустили гвардию из Питера? Почему дорогу не взорвали?
— Я сам об этом думаю, — сказал Кон. — Что-то, видимо, случилось совершенно непредвиденное. Я не исключаю и предательства.
— Да-а, — протянул тот же голос, — трусов и предателей и среди нашего брата отыскать можно. Тоже попадаются…
И снова — молчание. Редкие выстрелы и систематические, один за другим, разрывы снарядов во дворе фабрики и в развороченной поперек широкой улицы баррикаде.
Послышались торопливые шаги по скрипучей лестнице. Кто-то влез в узкое квадратное отверстие в чердаке и сказал хрипло:
— Все, товарищи! Все! Приказ из штаба… дальнейшее сопротивление бессмысленно… Все баррикады, кроме нашей, пали. Ночью всем уходить в подполье. Сейчас вам скажут, кому куда.
Все десять боевиков не проронили ни слова. Словно никто не собирался выполнять приказ боевого штаба Пресни. Ведь все понимали, что рано или поздно им придется уходить с этого политого рабочей кровью пятачка заснеженной морозной Москвы. Понимали с тех самых пор, когда загрохотали залпы привезенных гвардейцами пушек. Понимали, но до последнего мгновения не верилось, что бесчисленные жертвы и на этот раз не принесли победы…
Кон выглянул за карниз, на белеющую в ранних сумерках улицу. Начинал валить снег, укрывая белым саваном трупы рабочих и солдат-гвардейцев, густо устлавшие подходы к баррикаде после недавней рукопашной схватки — последней в этих девяти днях войны московского пролетариата с самодержавием.
Спустились вниз, вошли в рабочую столовую. Прочитали приказ:
«…В субботу ночью разобрать баррикады и всем разойтись далеко. Враг нам не простит его позора. Кровь, насилие и смерть будут следовать за нами по пятам нашим. Но это ничего. Будущее за рабочим классом. Поколение за поколением во всех странах на опыте Пресни будет учиться упорству. Я отдал приказ в воскресенье развести пары, и все фабрики заработают, а начальники дружин укажут, где прятать оружие.