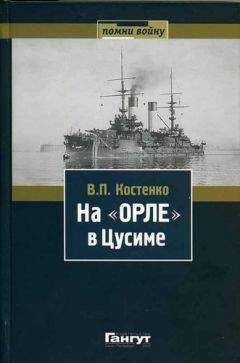Евгения Мельник - ЕВГЕНИЯ МЕЛЬНИК
— Вот только мешок очень старый, боюсь, чтобы не порвался, а другого у меня нет.
Я не посмела отказаться от такого подарка. Когда вернулась к Воронцовым, Дмитрий Григорьевич насыпал в мешок еще около пуда пшеницы и сказал: — Будет возможность — вернете. А сейчас у меня есть, и я могу поделиться.
Это было уже целое богатство, о котором никто из нас не смел мечтать. Но как донести мешок до вокзала? На счастье, сосед Воронцовых — шофер ехал на вокзал и подвез меня. Поезд должен был проходить через станцию Альма около двенадцати часов ночи, ждать еще долго, а вечер холодный. Я постучалась в домик железнодорожного рабочего и попросила разрешения посидеть в тепле.
Люди в те дни быстро распознавали друг друга и с двух-трех слов понимали, с кем ведут разговор.
Не успела я поздороваться с хозяйкой, возившейся возле плиты, и ее мужем, как начала перекидываться с ними отдельными фразами, быстро определившими общность настроений. Через полчаса, когда вошел другой дорожный рабочий, приятель хозяина квартиры, мы уже вели самый оживленный разговор. Тема его везде и всюду была одна и та же: глубокая, непримиримая ненависть к фашистам.
Вошедший рабочий охотно вступил в беседу. Когда я упомянула о 35-й батарее и сказала, что сама оттуда, все обрадовались:
— Да, мы слышали о ней! Говорят, что там долго дрались, не хотели сдаваться.
Я тоже обрадовалась: значит, память о героях Севастополя жива в сердце народа. И начала рассказывать о том, что знала и видела.
Но вот уже около двенадцати часов ночи, пора выходить на перрон. Меня слегка лихорадило от ночной сырости и волнения: удастся ли сесть на поезд, да и вообще, как я влезу в вагон со своим тяжелым мешком? Минут через пятнадцать подошел поезд. И вдруг он неожиданно свернул на третий путь, а на втором стоял длинный товарный состав. Пришлось пролезать под его загонами. Не в силах поднять свой груз, я волокла его по земле. Старый мешок зацепился за что-то и лопнул; пшеница, как вода, потекла из него. Полная отчаяния, с трудом я выволокла мешок из-под вагона. Вдруг какой-то мужчина бросил свою ношу, вытащил из-за пазухи длинную толстую иглу.
— Не волнуйтесь, я зашью вам мешок, я сапожник и всегда ношу с собой иглу, — сказал он и принялся крупными стежками стягивать дыру. Покончив с этим делом, мужчина помог мне взвалить нелегкий мешок на спину.
Я, конечно, не смогла бы сесть в поезд, но опять нашлись чьи-то доброжелательные руки и втащили меня в вагон вместе с мешком.
При слабом свете звезд, проникавшем в открытые двери вагона, я узнала в сидевшей напротив пожилой женщине, крепкой и здоровой на вид, одну севастопольскую сумасшедшую, которая в свою очередь узнала меня. Мы разговорились, оказалось, что она живет в доме старости в Бахчисарае, где их совсем почти не кормят. Сейчас она возвращалась из деревень, куда ходила просить на пропитание. В Бахчисарае, сойдя с поезда, мы решили вместе где-нибудь провести ночь: ведь хождение запрещено и надо ждать до рассвета.
Мы залезли в заброшенное бомбоубежище. В абсолютном мраке нащупали угол щели, положили свои мешки и сели на землю, устланную холодной и сырой соломой. Моя сумасшедшая выразила полное удовлетворение:
— Тут можно будет и поспать до утра, — басом сказала она. — . Эх, пшеничка, ваша пшеничка!
Вскоре раздался ее богатырский храп. А я, сжавшись в комочек в самом углу щели, дрожала от холода, зубы мои отбивали частую дробь. Ночь была холодная, в щели с двойным ходом сквозило, как в трубе. Тишину глубокой ночи нарушал лишь храп сумасшедшей, да мыши бегали и скреблись в соломе. «Пшеничка, пшеничка» — вспоминала я слова сумасшедшей. Мне стало жутко.
Я вылезла из щели и пошла блуждать вокруг вокзала в надежде на то, что кто-нибудь пустит к себе пересидеть ночь. Вдруг меня остановил резкий окрик, подбежали два немецких солдата. О чем они говорили, я не поняла. Понятно было только одно: я ходила там, где, очевидно, запрещено ходить. В это время подошел третий солдат, который оказался татарином-добровольцем.
— Вас спрашивают, зачем вы здесь ходите, — пояснил он.
— Я приехала поездом, сидела в бомбоубежище, замерзла, хотела попроситься к кому-нибудь переночевать…
Доброволец строго сказал:
— Идите обратно и не выходите до утра из бомбоубежища. Не ходите здесь, вас могут пристрелить, принять за партизанку.
Я поспешила уйти. Мне было страшно и в то же время радостно. Значит, боятся оккупанты партизан! Значит, народные мстители живут и действуют где-то по соседству.
Весь остаток ночи я думала о партизанах. Вот бы встретить кого-нибудь из них!
Утром, взвалив на плечи свои мешки, мы с сумасшедшей зашагали по дороге в город, освещенный розовым светом восходящего солнца.
Никакой красоты, никакой экзотики.
Начались дожди. Домик Богоявленских был настоящей избушкой на курьих ножках: в окнах щели, крыша текла, и с потолка обваливались куски штукатурки. Сергею Павловичу в его клетушке было еще хуже, а мы никак не могли найти себе жилище, никто не хотел сдавать нам комнату. Наконец, на окраине Бахчисарая одна татарка согласилась сдать нам нежилое помещение. В двух комнатах было четыре окна, обращенных на север, — и ни единого стекла, настоящая лачуга. Но мы сейчас же в нее перебрались.
Середина ноября. Северный ветер треплет и рвет тряпки, которыми завешаны окна, врывается в комнату вместе с холодным дождем. Забить окна нечем, у нас нет ни фанеры, ни гвоздей, нет и вещей, на которые можно было бы это все выменять. Палочками и щепочками, собранными возле реки, мама разожгла плиту и варит пшеничную кашу. Мы терпеливо ждем того момента, когда каша будет готова, тогда мама положит каждому по нескольку ложек. Норма жесткая, но мы не протестуем: можно сразу съесть всю пшеницу, а что же завтра? Надеяться не на что.
В комнате нет ни стула, ни стола, ни кроватей — ничего, кроме двух старых, твердых, как камень, подушек, набитых слежавшейся соломой. На день мы из них устраиваем сиденье на полу, а ночью спим на них. Пока горит плита, жмемся поближе к ней, но это продолжается недолго. Лишь затухнет огонь — и холодный ветер мгновенно уносит все тепло.
Я сижу на крыльце, перед моими глазами небольшой внутренний двор, устланный каменными плитами, возле крыльца растет старая дуплистая шелковица с огромной кроной, которая летом бросает тень почти на половину двора.
Бахчисарай чрезвычайно живописен, особенно в погожий осенний день. Он расположен в узком ущелье, окружен причудливой формы скалами. На фоне синего неба ярко выделяются очертания скал, кое-где поросших кустарником, с светло-зелеными, золотыми и кораллово-красными листьями. Дома восточного стиля с неизменными террасами живописно лепятся по склонам ущелья.