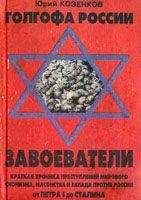Томас Манн - Путь на Волшебную гору
Очарование все возрастало. Этому немало способствовала мысль о споспешестве, о непрерывности, о продолжении, о сотрудничестве в чем‑то испокон веку человеческом, мысль, в моем возрасте также приобретающая все большую притягательную силу. Тема, мною завладевшая, представляет собою наидревнейшее достояние культуры и творческого воображения, любимейший сюжет всех искусств, сотни раз на Востоке и на Западе привлекавший внимание художников и поэтов. Мой труд, хорошим или плохим он окажется, все же отмеченный печатью своей эпохи, своей страны, займет, так я полагал, свое, историей определенное место в этом ряду, в этой традиции. Самое важное, решающее — мотивированность. Эти видения глубоко уходят корнями в мое детство. Принявшись путем археологического изучения и исследования Востока уяснять себе свои грезы, я лишь продолжил этим столь любимое мною в отрочестве чтение, раннее свое увлечение «страною пирамид» — ребяческие достижения, в итоге которых я в младшем классе сильно сконфузил учителя, когда в ответ на вопрос, как звали священного быка египтян, назвал не его грецизированное, а подлинно египетское имя.
Надо сказать, занимавшая меня новелла представлялась мне одной из боковых створок исторического триптиха, для двух других частей которого я намеревался взять испанские и немецкие сюжеты, причем историко — религиозный мотив был задуман как сквозной. Старая погудка! Только я после долгих колебаний, долгого хождения вокруг очень уж горячей каши принялся писать — и сразу же стало невозможно скрывать от самого себя притязания рассказа на самодовлеющее бытие, на полный простор. Ибо мой педантизм в трактовке эпической темы, пресловутое «ab ovo»[87] заставили меня включить в свое повествование как предысторию, так и историю праотцев, причем образ Иакова, отца Иосифа, занял настолько преобладающее место, что заглавие «Иосиф и его братья», которым я, во имя традиции, дорожу, в конце концов, очевидно, окажется несоответствующим и его придется заменить другим — «Иаков и его сыновья».
Забота не столь уж насущная! Что роман, работа над которым, так мне кажется, доведена приблизительно до середины (но возможно — это, по выражению Гегеля, всего лишь «хитрая уловка разума») — несколько характеризующих его стиль выдержек пока что напечатано в «Нейе дейче рундшау» и «Литерарише Вельт», — что роман этот не удастся закончить без обычных задержек и перерывов, потребных для импровизированных вставок, с этим мне, разумеется, заранее пришлось согласиться. И действительно, том «Требования дня» уже в значительной части состоял из таких интермедий, к числу которых, в частности, относится пространный этюд о нежно мною любимом «Амфитрионе» Клейста — аналитическое прославление, нечто в не имевшей своего Сент — Бёва Германии едва ли не беспримерное. Насколько в юные годы я чувствовал себя обязанным следовать образцам и шагу ступить не смел без постоянного соприкосновения с восхищавшими меня примерами, настолько с течением времени своевольно — чуждая образцам и насквозь дерзновенная, лично достигнутая возможность созидания чего‑то нового стала для меня воплощением искусства, и выше всех любого рода похвал я ставлю положительное суждение Андре Жида о «Волшебной горе»: «Cette oeuvre considerable n’est vraiment comparable к rien»[88].
Я не согласен назвать праздным времяпрепровождением мое любовное, длившееся несколько недель погружение в комедию Клейста и в чудеса его метафизического остроумия, так как многие потайные связи соединяли эту критическую работу с «главным делом», и любовь никогда не бывает расточительством. Но я все же доволен тем, что среди этих экспромтом возникавших работ, из‑за которых роману уже столько раз приходилось отступать на задний план, есть и самодовлеющая повесть. Я имею в виду «трагический эпизод во время путешествия» — «Марио и волшебник», и, по всей вероятности, весьма редко что‑либо живое, хочу надеяться, было обязано своим возникновением причинам столь механическим. Усвоив привычку каждый год хоть часть лета проводить на море, мы, жена и я, с младшими детьми прожили август 1929 года в Замландском курорте Раушене на Балтийском море — выбор, обусловленный тем, что нас неоднократно звали в Восточною Пруссию, причем с особым усердием нас приглашал «Союз имени Гёте» в Кенигсберге. Брать с собой в эту нетрудную, но дальнюю поездку сильно разбухший материал — неперепечатанную рукопись «Иосифа» — было бы не очень целесообразно. Но поскольку я совершенно не приспособлен к бездельному «отдохновению», приносящему мне скорее вред, чем пользу, я решил заполнять утренние часы несложной задачей — рассказом, в основе которого лежало происшествие, связанное с более давней каникулярной поездкой, с пребыванием в Форте — деи — Марми, близ Виареджо, и вынесенными оттуда впечатлениями, то есть решил заняться работой, которая не требовала никакого аппарата и которую можно было в самом приятном смысле слова «черпать из воздуха». И вот я принялся было в обычные мои рабочие часы, рано поутру, писать у себя в комнате, но внутренняя тревога, порождаемая тем, что я лишал себя моря, мало способствовала успешности моего труда. Я не думал, что смогу работать вне дома. При работе мне нужна крыша над головой, чтобы мысль не испарялась в мечтаниях. Тяжкая дилемма! Только море могло ее создать, и, к счастью, оказалось, что по сути своей природы оно же в силах было и разрешить ее. Я дал себя уговорить перенести свое писание на пляж. Плетеную кабинку я придвинул к самой воде, где полным — полно было купающихся; бумагу я примостил на коленях, передо мой расстилался широкий, постоянно прорезаемый гуляющими горизонт, меня окружали люди, которые радостно наслаждались всем вокруг, голые ребятишки жадно тянулись к моим карандашам — и ничто во мне уже не противилось тому, что из происшествия у меня невзначай создалась фабула, из рыхлой словоохотливости — имеющая духовную значимость новелла, из сугубо — личного — этически — символическое, причем меня ни на миг не оставляло чувство радостного изумления тем, как чудесно море умеет любую раздражающую человека помеху поглотить и растворить в своей столь любимой мною необъятности.
Впрочем, пребывание в Раушене имело, кроме литературных, еще и важные для моей жизни последствия. Мы съездили оттуда на Курише Керунг, красоты которой мне много раз уже рекомендовали обозреть, — ведь их восхвалял такой великий знаток, как В. фон Гумбольдт, — провели несколько дней в рыбацком поселке Нидцене, расположенном в управляемой Литвой Мемельской области; неописуемое своеобразие и очарование этой природы, фантастический мир передвигающихся дюн, населенные зубрами сосновые леса и березовые рощи между гафом и Балтийским морем, — все это произвело на нас такое впечатление, что мы решили в этих, столь дальних, местах, как бы по контрасту с нашим южногерманским обиталищем, устроить себе жилье. Мы вступили в переговоры, у литовского лесного ведомства взяли в аренду участок на дюнах, с величественно — идиллическим видом вдаль, и поручили архитектору в Мемеле построить тот теперь уже подведенный под камышовую крышу домик, где мы отныне хотим проводить школьные каникулы наших младших детей.