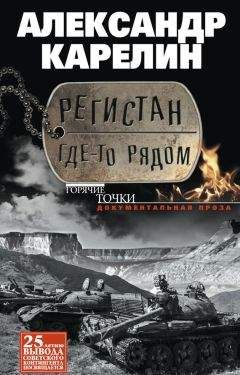Владимир Стасов - Училище правоведения сорок лет тому назад
Другой русский «воспитатель» [2] был маленький человечек, преподававший и печатавший русскую грамматику, что было в те времена не малое чудо, при беспредельном господстве повсюду Греча и его никуда не годной грамматики. Наш правоведении лингвист пробовал быть поновее и пооригинальнее и особенно гордился тем, что, на основании своих филологических исследований, заставил написать на вывеске училища: «правоведение», а не «правоведение», как до тех пор все писали. Он был добряк, вечно суетящийся и заторопленный. Его звали «ершом» — за брови, простиравшиеся врозь остриями, как плавательные перья, но любили и уважали.
Еще другой наш воспитатель был француз, [3] ужасно сухой и холодный на вид, с неприятно выбритым пергаментым лицом и высоко закрученным наперед вверх хохлом (на манер Аполлона Бельведерского, как тогда носили многие, в том числе и знаменитый живописец Брюллов); челюсти у него были как у акулы, глаза маленькие, ходил он сутуловато, вывертывая ноги и помахивая длинными фалдами вицмундира. Я таких французов видел только на французском театре, когда представляют какого-нибудь школьного учителя, педанта; должно быть, кроме этих, нет более во Франции подобных субъектов. И все-таки наш француз был педантом лишь слегка и вне классов, где нас мучил напечатанными, для сбыта нам за деньги, своими таблицами: «homonymes franèais» т. е. примерами, из которых мы узнавали, что хотя «chérubin» и «coquin» одинаково кончаются на «in», но обозначают совершенно различную деятельность. Впрочем, несмотря на свое сухое ковырянье во французском языке, он был довольно весел и любезен.
Еще один воспитатель был немец, [4] пожилой и белокурый, с квадратной головой и подслеповатыми глазами, тускло глядевшими из-за золотых очков, до того любитель физики, что не только преподавал ее в маленьких классах, но даже большую часть жалованья употреблял на покупку физических инструментов, которыми и застановил всю свою квартиру. Он был в восхищении, когда мы допрашивали его о физических опытах, и иной раз звал многих из нас к себе на квартиру, чтоб еще поделать тех опытов, что не все поспел докончить во время класса. Мы смеялись над тем, как он немножко гнусил и вяло тянул слова, все равно и на лекции, и в разговоре, и во время команды, а все-таки любили его, как очень справедливого, доброго и милого господина.
Потом еще одним из воспитателей в первое время был [5] отставной офицер путей сообщения, из поляков и католик, значит, в тогдашнее время преследований, человек совершенно бесцветный и незначительный. Он у нас недолго оставался и никакой особенно худой памяти по себе не оставил, кроме того, что громко хрюкал носом и горлом, когда с какой-то особенной аффектацией командовал: «Нале-во, и вместе с эстим марш!» Он находил, что это ужасно остроумно и забавно, но мы были с ним согласны только наполовину.
Были еще у нас, между «воспитятелями»; один немец, [6] маленький живой и очень подвижный, преподаватель немецкой грамматики и примеров в стихах, человек недурной и довольно приятный; француз, [7] человек старый и трусливый, но живой как француз, хотя у нас и уверяли, что он из отставных солдат наполеоновской армии.
Наконец, когда открылись верхние классы, к нам поступили еще: один немец, Шнерринг, высокий и флегматик на вид, медленный и равнодушный, но в сущности человек с золотым сердцем и солидно по-немецки образованный, недавно только и сам из одного немецкого университета; другой — тяжелый, немножко меланхолический англичанин Бушман, любивший иногда похвастаться мастерской своей гимнастикой и боксерскими подвигами жилистого своего кулака. Эти два последние «воспитателя» были, наверное, лучше всех остальных, — превосходные, симпатичные люди, еще более всех остальных разговаривавшие с нами о книгах, литературе и даже искусстве. Многие из нас (в том числе и я) всего более обязаны именно им своим образованием. Эти два последние человека составляли решительное исключение между всеми другими и по действительной просвещенности своей, и даже по некоторому европеизму, насколько он возможен в человеке, выбранном в гувернеры казенного заведения. Зато они были недостаточны как «гувернеры» и каким чудом спасались от неприятных историй — я уже и не знаю. Разве потому только, что мы сами их очень любили и щадили.
Учителя и профессора были у нас не бог знает какие, однакоже, приблизительно все лучшие, каких тогда можно было достать в Петербурге. Многие были взяты к нам, для старших классов, из числа тех, что преподавали в Царскосельском лицее, а лицей считался в то время лучшим штатским заведением, тем самым, чем был Пажеский корпус между военными. Правда, между этими «лучшими» профессорами были такие допотопные руины, как Кайданов и Георгиевский. Оба они тяжелые поповичи, неповоротливые и грузные, словно киты, в своих вицмундирах с темнозеленым бархатным хомутом на шее, добрые, но оба отсталые педанты даже и для тогдашнего не слишком взыскательного времени; оба проповедники мнений и морали, еще более наивных и младенческих, чем те, что царствуют в «баснях» Крылова (только без талантливости и неподдельной национальности Крылова). Все это стоит отпечатанное в их курсах. Над ними все училище смеялось, впрочем, добродушно, — но где же было взять «известных» профессоров лучше? Отрывать и пробовать новых было некогда, да и кому же впору? Впоследствии Кайданова заменил в училище Шульгин. На него вначале долго смотрели, как на необыкновенное светило новой науки, но впоследствии который-то из нас услыхал, вне училища, что у Шульгина все прямо по Гизо; мы тотчас добыли Гизо, сверили, и Шульгин потерял весь престиж, даром что излагал нам что-то новое, неожиданное, «мысли об истории», хитро проведенные сквозь всякие события и факты. Нам ведь непременно надо было, чтобы каждый профессор читал «свое», не то он для нас ничего не стоил, даром что мы сами ровно ничего не знали. Был еще у нас француз Аллье, читавший французскую литературу в высших классах и жевавший постоянно, на кафедре, неизвестно для чего, анис, который носил в жилете: это был прекрасный, любезненький, веселый французский старичок, по обычаю всех французов никогда не ограничивавшийся своим предметом и, кроме Мольера и Корнеля, читавший нам во французских старинных переводах сотни страниц из «Илиады», Софокла, Эврипида, Аристофана и Плавта, о которых, если бы не он, мы никогда не имели бы никакого понятия, даром что всяких профессоров и курсов было у нас множество. Был у нас профессор английского языка, Уарранд, седой, но bel-homme и раздушенный франт, не признававший никакой грамматики и никакой системы для английского языка, кроме нескольких механических отрывочных правил, и в то же время терпеть не могший Байрона, говоря, что он был препосредственный поэт по своей форме, а по содержанию — стыд и срам английского народа. Был у нас преподаватель географии — старый путей сообщения полковник Вранкен, со свесившимися на широкую богатырскую грудь тяжелыми рассыпавшимися эполетами, заставлявший нас зубрить уезды русской империи и произведения разных стран света — в виде дубовых стихов, им самим сочиненных: за пропуск одного имени или одного произведения скидывалось от 12-ти (полного балла) по баллу долой. Мы усердно долбили что было велено, отвечали исправно, получали хорошие баллы, полковник Вранкен радовался, а мы все-таки никогда не знали, ни тогда, ни теперь, всех уездов России и всех произведений всех стран света. Было у нас еще немало других профессоров, чудаков или педантов, но все-таки добряков и старательных людей, которые преподавали нам, как умели, науку не слишком высокого и солидного калибра, а все старинного покроя. Они иной раз немножко надоедали нам или смешили нас, но по крайней мере никогда не преследовали нас и давали нам довольно свободно дышать (даром что большинство между ними были немцы), — а это такая редкость в каждом училище. Я думаю, всех лучше и замечательнее между ними был правоведский священник, Мих. Измаил. Богословский. Он нес несколько должностей зараз: он служил в церкви, был нашим духовником, преподавателем закона божия в маленьких классах, преподавателем логики и психологии в старших, и все эти должности он исправлял с такою строгостью и добросовестностью, которым каждый из нас не мог не отдавать полной справедливости. Во всех отношениях своих к нам он был необыкновенно строг и взыскателен — быть может, строже всех остальных наших профессоров, директора и «воспитателей», но мы никогда не были за это на него в претензии и более всех уважали именно его. И дети, и юноши никогда не прочь от серьезности и строгости отношений, когда в них высказывается сила, самостоятельность, мужественная прямота и чистота намерений, хотя бы иногда и заблуждающихся. Им противны только слабость, низость или пристрастие. Для нас священник наш был настоящим оракулом во всем самом важном, и мы нередко вступали с ним в длинные беседы обо всем для нас интересном и важном. Случалось, когда мы были уже в средних классах, что давно уже пробил звонок и началась рекреация, большая зала рядом давно уже полна шума, криков и волнения движущейся толпы молодежи, а наш Богословский все еще продолжает сидеть на кафедре и около него стоит кучка ревностных его поклонников и ценителей и продолжает толковать с ним, интимно, нараспашку, о всем, что нас интересовало в прочитанных книгах, в исторических событиях старого и нового времени, в понимании и определении тех или других важных, интересных для нас личностей. «А ведь наш батька-то — лихой батька!» — говаривали мы потом друг с другом, когда он, наконец, уходил к себе домой. И все-таки это не мешало нам не соглашаться с ним во многом. «Что ж ему делать! поповское воспитание! священник! так уже вырос, так привык!» — говорили мы и много раз соглашались друг с другом, что, родись он в простом звании, он был бы еще лучше, и значительнее, и драгоценнее.