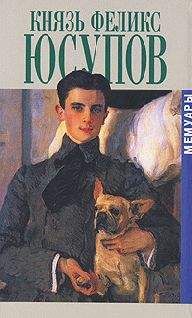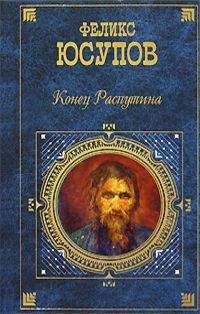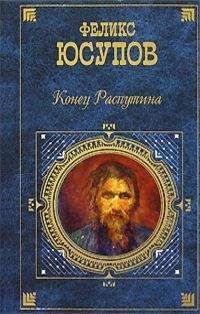Василий Емельянов - О времени, о товарищах, о себе
— У них виз нет для въезда в Саарскую область.
— Ну ничего, к нам пропустят, а обратную визу для въезда в Германию мы получим: у меня знакомый консул на французской границе, возьмем через него.
В Саарскую область мы въехали действительно без труда, но, когда дело дошло до выезда, появились осложнения. Оказалось, что французский консул уехал на несколько дней в другой город, а пользующийся большим влиянием владелец завода — Герман Рохлинг — находился в эти дни в Женеве.
Одним словом, перед нами были только две возможности: или ждать возвращения Рохлинга, или пересекать границу без виз. Собственно, у меня документы были в полном порядке, но Пипикова и Васильева могли ждать неприятности.
Главный инженер завода предложил нам свою машину и сказал:
— Поезжайте на машине до Цвайбрюкена. Вас никто не остановит, мою машину знают, и пограничный контроль не осмелится ее остановить, а если вы во время пути будете разговаривать друг с другом, то вас никто и не рискнет прервать. Мы здесь пользуемся все-таки известным уважением. С нами здесь считаются.
Мы решили ехать.
Утром, когда мы выезжали из Фольклингена, шел мелкий дождь. Узкая автомобильная дорога шла вначале через виноградники, а затем через сосновый лес. Контрольный пограничный пункт находился на опушке этого леса.
У контрольного пункта нас остановили таможенники. Обычные для этих мест вопросы:
— Haben Sie Zigarren, Zigaretten, Tabak, Kognak, Parfüm?[3]
— Nein[4].
Таможенник открыл дверцу машины, заглянул внутрь, приподнял крышку багажника, захлопнул ее и, козыряя, отошел в сторону, а мы двинулись дальше.
Я спросил сопровождающего нас представителя фирмы:
— А где же будут проверять документы?
— Должны были бы здесь. Но пограничник играл в карты. Он их сдавал как раз, когда мы подъезжали. Я видел это через окно домика контрольного пункта, — разъяснил мне представитель фирмы. — По-видимому, он не хотел выходить в дождь из помещения и прерывать игры, — добавил он, уловив мой недоуменный взгляд. — Кроме того, нас здесь знают. Эта машина им знакома.
Так мы проехали без затруднений границу.
Это было лишним свидетельством влияния магнатов промышленности. Контролировать тех, кто контролирует всю страну, никто не решался.
Польша Пилсудского
На польской границе все повторяется заново. Только вместо немецкой речи звучит польская.
Старик таможенник. Он, безусловно, знает русский язык, но обращается ко мне по-польски. Я отвечаю ему по-русски, чувствую, что он понимает, но не хочет этого показать и повторяет свой вопрос по-немецки. Вопросы тривиальные, которые задают все таможенные чиновники на границах всех стран мира.
Прошли пограничники, сделали в паспорте отметки, и поезд тронулся. Мы на территории Польши Пилсудского.
Имя Пилсудского было синонимом лютой враждебности по отношению ко всему прогрессивному и революционному.
Впервые я это имя услышал в 1920 году, когда был еще в Баку и белопанская Польша напала на Советское государство. Была объявлена мобилизация, и мы, группа бакинской молодежи, пошли на призывной пункт, записались добровольцами и попросили отправить нас на Польский фронт.
Мы знали, что организатором этого нападения был Пилсудский.
В газетах Советского Союза часто появлялись статьи о преследовании польских революционеров и жестокостях в польских тюрьмах, а убийство двух польских революционеров Вечоркевича и Багинского в марте 1925 года вызвало волну возмущения по всей Советской стране.
Они были убиты на польско-советской границе, когда их должны были обменять. Известие об этом убийстве всколыхнуло Москву. Начались митинги и демонстрации. В 1931 году в печати появился ряд статей о страшных зверствах в польских тюрьмах.
В памяти сохранилась статья Д. Заславского «Пытки и палачи «культурного барьера». Она начиналась словами: «На буржуазную Польшу международным империализмом возложена высокая миссия, о которой с гордостью говорят каждый раз польские буржуазные политики, когда им надо оправдать свои воинственные замыслы против Советского Союза. Польша должна служить «культурным барьером», отгораживающим просвещенную Европу от большевистского варварства».
Дальше Заславский приводит выдержки из писем заключенных в Луцкой тюрьме и в тюрьме — в Острове Мазоветской. Молодой рабочий, кузнец — ему 17 лет — пишет:
«Шесть раз вливали мне через нос воду, смешанную с керосином, рот при этом затыкали тряпкой».
«Зверства их и садизм не поддаются человеческой речи», — пишет один из перенесших пытку.
«Польша Пилсудского давно стала тем, чем была прежде царская Россия — беспросветной тюрьмой народов. И об этом заговорит рабочий класс Польши, которого не запугают любые пытки». Этими словами Заславский закончил свою статью.
Вот она, эта Польша, передо мной.
На одной из станций, перед Варшавой, в купе вошли трое — довольно пожилая женщина и двое мужчин. Женщина, поправляя нитку бус, висевших на шее, разорвала шнурок, и бусы рассыпались.
Я наклонился и стал собирать их, а затем, протягивая ей бусинки, произнес:
— Пожалуйста.
И вдруг услышал в ответ:
— Спасибо.
А затем последовал вопрос:
— Вы русский?
— Да.
— Из Москвы?
— Да, из Москвы.
— Я влюблена в Большой театр. Так хотелось бы заглянуть туда, хотя бы одним глазком. До 1917 года я вместе с родителями часто бывала в Москве. Мы обычно останавливались в гостинице «Париж». Я помню, что недалеко от нее находилась большая церковь и торговые ряды. Есть сейчас такая гостиница в Москве?
Во время ее рассказа передо мной вставали картины старой Москвы. Охотный ряд, церковь Параскевы Пятницы, часовня.
— Этот район Москвы полностью перестроен. Нет больше ни торговых рядов, ни гостиницы «Париж», ни церкви. На месте Охотного ряда выстроена большая гостиница «Москва».
— Как я жалею, что не прослушала все, что тогда исполнялось в Большом театре, — со вздохом произнесла моя собеседница.
Тоска по Москве, восхищение театрами и, наконец, теплые человеческие чувства к русским — все это было большим контрастом тому, что питали те официальные лица панской Польши, с которыми мне приходилось встречаться.
Когда я проезжал через Польшу летом 1934 года, у меня возник конфликт с польскими чиновниками на немецко-польской границе.
Таможенники заставили меня тогда сдать в багаж пакет с лекарством, который работники советского посольства в Берлине просили доставить в Москву. Все мои попытки объяснить, что я везу лекарства для очень больного человека и боюсь сдавать их в багажный вагон, ни к чему не привели. Холодное безразличие чиновников и их пренебрежительное отношение к просьбе запомнилось. Тем более, что в соседнем купе тогда ехали немцы, у них было много различных пакетов и чемоданов, но контролеры только заглянули к ним и не задали и и одного вопроса. У меня же потребовали открыть чемодан.