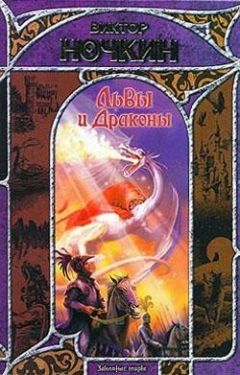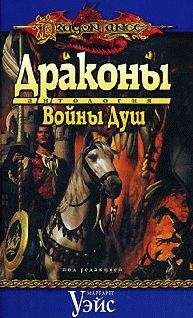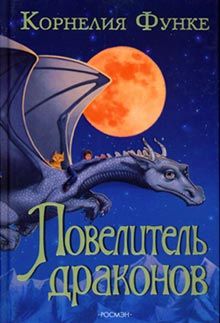Алэн Польц - Женщина и война
Так мы шли до вечера. Мами уже еле-еле шагала. Мы тащили ее, подхватив под руки с двух сторон, бедняжка едва волочила ноги по земле, слезы лились из ее глаз ручьем.
У меня заболело сердце; это неудачное выражение, но ничего другого я сказать не могу. Потом меня охватила дикая злоба к русским. Такая злоба и гнев, которые я редко ощущаю в жизни: в эти минуты меня переполняет такая отвага, что я ничего не боюсь.
Я выскочила из строя; не знаю, почему меня не пристрелили. Побежала вперед и схватила под уздцы лошадь солдата, ехавшего в голове колонны. Лошадей я тогда уже не боялась: они гораздо добрее, чем люди. Лошадь резко остановилась и поднялась на дыбы, когда я встала перед ней как вкопанная. А солдат занес плетку и ударил меня или хотел ударить, уже не помню, это не так важно.
Помню только, что кричала по-русски: "Стой!", а по-венгерски: "Звери! Вы что, не видите - женщины и дети не могут идти? Остановитесь!" И мы остановились! Солдаты и вся колонна - все рухнули на землю там, где стояли; люди смогли наконец передохнуть, помочиться. Не знаю, сколько мы простояли; через некоторое время мы поднялись и двинулись дальше.
Что было после - не знаю: от усталости и холода мне отшибло память.
Потом вижу себя в каком-то домике, чистом, приветливом; там всего одна комната, в печке ярко горит огонь. Может быть, это охотничий домик или караульное помещение. Там, к моему удивлению, сидел мужчина в форме немецкого офицера; нога у него была то ли в гипсе, то ли забинтована; он разговаривал со стоящим рядом русским офицером, видимо, большим чином. Я показала ему записку и попыталась объяснить, что мы - "дипломатический корпус", а потом потребовала по-русски, по-венгерски, по-румынски и по-немецки, чтобы нас отпустили: это незаконно, бесчеловечно.
Офицер внимательно смотрел на меня, затем вызвал солдата (не помню уже откуда) и приказал, чтобы нас отделили и отпустили на свободу. Всех нас: пленных французов, югославского священника, представителя папского посольства с матерью, Клари, девочку, Мину с матерью, Яноша, Мами и меня отпустили на все четыре стороны.
Перед этим нам вернули ту бумагу и дали каждому по ломтю хлеба полбуханки на всех. Мы были голодны с самого утра, не помню даже, ели ли мы утром. Свой ломоть хлеба я положила в карман пальто: съем позже, когда голод совсем одолеет, или отдам кому-нибудь, кто выбьется из сил. Так мы и отправились в дорогу, зная - нас как-то предупредили, - что находимся на передовой.
Мы шли вслепую. Янош считал, что мы недалеко от Чаквара, он знал туда дорогу. Сначала нужно было пройти через лес, и самым странным здесь было уже темнело, - что я все время видела летящие мимо пули. Да, именно видела: они были цветные, светились зеленым светом. "Сигнальные ракеты", - сказал Янош. Годы спустя, на рассвете 4 ноября 1956 года, увидев в окно цветные залпы, Миклош сказал: "Начинается советское наступление, это сигнальные ракеты". И наступление началось.
Ночью мы добрались до околицы Чаквара. Там был выставлен патруль: русский солдат расхаживал взад-вперед.
Наши собаки опять были с нами. Три из них, те, кто выжил, преданно за нами следовали. Пока мы шли в колонне, они бежали лесом, держась вдалеке, чтобы солдаты не заметили их и не пристрелили. Они были очень смышленые: все-таки охотничьи собаки. В этом им повезло, да и нам тоже. Ведь из-за собак мы могли поплатиться жизнью.
Из последних сил мы пробрались по сугробам через лес, сквозь кустарник, и вышли на тропу, ведущую к деревне. Мы смертельно устали, но Янош не разрешил делать остановку - боялся, что мы не сможем больше подняться: ведь мы были на ногах с утра.
Зимой рано темнеет, но нам казалось, ночь тянется целую вечность. К тому же ночь была лунная, светло было и от снега. Мы притаились на опушке, потом легли на снег; можно было точно рассчитать, когда часовой уйдет дальше всего. Вот он доходит до места, где лежим мы; поворачивается, идет обратно; вот повернулся к нам спиной! Пока он смотрит в другую сторону, можно переползти через дорогу; на той стороне - похожая на ров ложбина, по ней и нужно двигаться дальше. Когда он повернется - это нужно было рассчитать, надо, лежа на животе, затаиться в ложбине. Пройдет, опять повернется спиной - можно ползти дальше, потом опять затаиться. Эта игра терзала нервы. Янош знал, как нужно двигаться, сам он пять раз прополз по этой дороге. Он и подавал нам сигнал: лечь - остановиться - двигаться вперед. Стоит кому-то сделать неверное движение - и всем нам конец. Он знал наверняка, что на передовой стреляют без разговоров. Да если бы нас и стали спрашивать, что бы мы сказали?
Так вот почему русские выгнали нас из дому, вот почему должны были умереть те, кто падал и отставал от колонны. А почему тогда нас отпустили?
Понятия не имею. Хотя у нас была бумага, что мы - дипломатический корпус и так далее, но ведь в конце концов нас отправили под огонь: тогда, ночью, никто не стал бы проверять у нас документы.
Последними остались Янош, Мами, я и собаки. Янош перетащил Мами. Очередь была за мной и за собаками. Из-за них он очень сердился. Ругался еле слышно, но крепко, шепча: "Какой же я дурак: собак надо было пристрелить, к дереву привязать. Надо их убить!"
Я не хотела убивать собак. Жить, правда, тоже не очень хотелось. Зато очень хотелось, чтобы в живых остались другие, особенно Янош и Мами. Я молчала, и мы поползли. Он - впереди, я - за ним, бок о бок со мной Филике. Филике был такой худенький, что умещался в канаве рядом со мной. Сзади - две другие собаки. Они уж наверняка точнее выполняли указания Яноша, чем я или кто-либо другой. Когда он давал знак "лежать тихо", они не шевелились. Когда мы ползли по-пластунски, они делали то же самое. Если мы лежали неподвижно, они тоже не двигались. Безмолвно, без единого звука.
Господи! Какими же умными, послушными, верными были эти собаки! Гораздо легче было ползти вместе со мной и с собаками, чем с остальными, говорил потом Янош.
В конце канавы был сарайчик, что-то вроде давильни, без подвала. Дверь была взломана. Мы забрались туда бесшумно, по очереди, все так же по-пластунски, после этого Янош приладил дверь на место, чем-то подпер ее. Внутри - два топчана, голые доски. Мы улеглись на полу и на топчанах. Заснули от усталости. Мы не мерзли: в тесной комнатушке нас было много.
На рассвете кто-то стал дубасить в дверь. Ну, теперь мы пропали! Собаки залаяли, Янош бросился к двери.
Это были русские солдаты, с ними мужчина, венгр. Мужчина узнал Яноша, сказал что-то русским. Наверное, "местный", "здесь живет", "невиновен", или бог его знает, что еще. Нас не тронули.
Утром я хотела было достать свой хлеб, но в кармане были лишь крошки: хлеб искрошился.