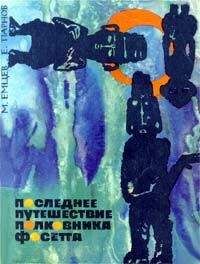Пабло Неруда - Признаюсь: я жил. Воспоминания
Все семейство располагалось прямо на берегу, расстилались скатерти, раскладывалась посуда. Когда ели, песок хрустел на зубах, но меня это не смущало. Как страшного суда я каждый день ждал того жуткого момента, когда отец посылал нас купаться. И даже там, где мы с сестрой Лаурой купались, далеко от гигантских водяных валов, ледяные брызги, словно удары хлыста, настигали пас. И мы дрожали от страха, что какая-нибудь волна языком слизнет нас и утащит туда, где волны вздымались горами. И когда мы с сестрой, посиневшие, крепко держась за руки и стуча зубами, уже готовы были к смерти, – раздавался железнодорожный свисток, и отец освобождал нас от мук.
Расскажу о некоторых тайнах тамошних мост. Одна из тайн – лошади-першероны, а другая – дом трех заколдованных женщин. На краю селения возвышалось несколько больших домов. Наверное, это были дубильные мастерские. Хозяевами были французские баски. На юге Чили много таких кожевенных предприятий, принадлежащих баскам. По правде сказать, я тогда не особенно знал, что это за штука. Я знал только: каждый день под вечер, в одно и то же время, из ворот появлялись огромные кони и проносились по селению.
Это были першероны – кобылицы и кони гигантского роста. Длинные густые гривы спадали на высоченные бока. Огромные ноги тоже были покрыты длинной шерстью, и на скаку она развевалась плюмажем. Лошади были рыжие, белые, золотистые, могучие. Так, наверное, скакали бы вулканы, если бы вулканы могли скакать, как те гигантские кони. Словно землетрясение, громыхали они по каменистым пыльным улицам. И хрипло ржали, сотрясая подземным гулом покой селения. Надменные, невероятных размеров и статей; я никогда в жизни не видел больше таких лошадей, разве только в Китае мне встречались такие – высеченные на камнях, на могильных монументах династии Мин. Но никакой, даже самый почитаемый камень не может дать представления о тех потрясающих живых животных: мне, ребенку, казалось тогда, что они вышли из тьмы, из мечты и несутся в другой мир – в мир великанов.
Но и в реальном мире дикой природы тоже было много лошадей. Я видел на улицах чилийцев, немцев и индейцев-мапуче, все до единого в черных шерстяных пончо, верхом на лошадях. Я видел, как они слезали с седел, а лошади – жалкие или ухоженные, худые или раздобревшие – стояли там, где их оставляли хозяева, стояли как вкопанные, пережевывая придорожную траву и пуская ноздрями пар. Они уже привыкли к своим хозяевам, привыкли к своей одинокой жизни среди людей. Л потом видел их нагруженных тюками с продуктами или инструментом, видел, как они тяжело поднимались вверх к неизвестно каким высям, карабкались по трудным тропкам или скакали по песку у кромки моря. А бывало от ростовщика или из мрачной таверны выходил всадник-араукан, с трудом взбирался на своего невозмутимого коня и отправлялся восвояси, к себе в горы, раскачиваясь в седле из стороны в сторону, – он был пьян. Я смотрел ему вслед, и мне казалось, что пьяный кентавр вот-вот свалится наземь, но я ошибался: качнувшись, он опять выпрямлялся в седле и тут же снова клонился набок, по как бы ни кидало его из стороны в сторону, в седле он сидел точно впаянный. Так он и продвигался километр за километром, пока окончательно ни сливался с дикой природой, – странное, шатающееся, диковинным образом неуязвимое животное.
Много лет подряд приезжали мы в эти чудесные края, и каждый раз повторялись с начала и до конца все хлопоты. Я рос и постепенно начинал читать, влюбляться, писать – ив грустные зимние месяцы в Темуко, и в полные тайн летние дни на побережье.
Я привык ездить верхом. В седле жизнь казалась выше и просторнее, в ней появились крутые глинистые дороги и неожиданные повороты. На пути возникали заросли, тишина или пение лесных птиц, а то вдруг вспыхивало цветущее дерево, все в пурпурном наряде, точно огромный архиепископ гор, или же в белоснежной одежде из неведомых цветов. А иногда попадался цветок копиуэ – неприрученный и неотделимый от куста, на котором он повис, будто капля крови. Я понемногу привыкал к жесткому, неудобному седлу и жестким шпорам, которые звенели у пяток. Так на бескрайнем берегу или в глухих горах началось общение моей души, иными словами, моей поэзии с землею, самой одинокой землею на свете. С тех пор прошло много лет, но это общение, это откровение, это единение с пространством и миром никогда не прекращалось и проходит через всю мою жизнь.
Мои первые стихи
А сейчас я расскажу историю о птицах. На озере Буди жестоко охотились на лебедей. Потихоньку подкрадывались в лодках, а потом быстро-быстро гребли к ним… Лебеди, как и альбатросы, плохо летают, им надо сначала разбежаться по воде. Тяжело расправляют они свои огромные крылья. И тут их настигают и приканчивают палками.
Мне принесли полумертвого лебедя. Это была прекрасная птица, каких я не видел больше в мире, – лебедь с черной шеей. Снежный корабль с прекрасной черной шеей, словно затянутой в черный шелковый чулок. А клюв оранжевый, и глаза алые.
Это случилось у моря, в Пуэрто-Сааведра, в Южном Империале.
Мне отдали его почти мертвого. Я промыл ему раны и впихнул прямо в глотку раскрошенный хлеб и рыбу. Он вытолкнул все обратно. Но я продолжал лечить его раны, и лебедь стал понимать, что я ему друг. А я понял, что он умирает от тоски. И тогда, подняв тяжелую птицу на руки, понес ее по улицам к реке. Лебедь поплавал немного – рядом со мною. Я хотел, чтобы он поохотился за рыбой, и показывал ему на дно, где меж камешков, над песком, скользили серебристые южные рыбки. Но птица грустными глазами глядела вдаль.
И так – каждый день, дней двадцать, а то и больше, я носил его к реке, а потом домой. Лебедь был почти с меня ростом. Однажды – в тот день он совсем нахохлился, и, как я ни старался, чтобы он поймал рыбку, лебедь не обращал на меня никакого внимания, был совсем вялый – я взял его на руки, чтобы отнести домой. И тут почувствовал, словно развернулась длинная лента и будто черная рука коснулась моего лица. Это падала длинная выгнутая шея. Так я узнал, что лебеди, умирая, не поют.
Лето в Каутине знойное. Оно выжигает небо и хлеба. Земля хочет наверстать упущенное во время долгого сна. Дома тут для лета не приспособлены, как не приспособлены они и для зимы. Выхожу из селения и шагаю, шагаю. Я заблудился на холме Ньелоль. Совсем один, мои карманы набиты жуками. В коробочке у меня только что пойманный мохнатый паук. Неба над головой не видно. В сельве всегда сыро, подошвы скользят; где-то вдруг прокричала птица – это вещунья-чукао. От ног подымается и охватывает меня жуткое предчувствие. Еле видны застывшие каплями крови цветы копиуэ. Я один, бедняга, под гигантскими папоротниками. У самого рта сухо прошелестел крыльями лесной голубь. А вверху надо мною хрипло хохочут птицы. С трудом нахожу дорогу. Уже поздно.