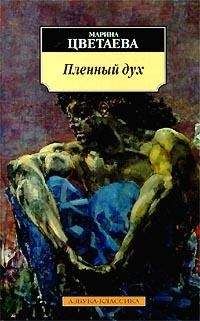Людмила Бояджиева - Марина Цветаева. Неправильная любовь
— Я болел четыре года, читал и перечитывал Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Льва Толстого и иностранных классиков. Из русских поэтов моим любимым оставался Пушкин. Из прозаиков больше всего волновали меня Достоевский и Толстой. Меня просто околдовывала их глубина и полная искренность.
Недавно я понемногу принялся за подготовку к экзаменам на аттестат зрелости. Рассчитывал поступать этой весной в Московский институт восточных языков. Да не вышло, снова захворал и был вынужден уехать сюда, в Крым. Прошел курса лечения в Ялтинской санатории Александра III, удачно перенес операцию аппендицита на туберкулезной почве. И вот… Знаете, Марина, я твердо верю, что теперь все пойдет по-другому. Я наберусь сил и сдам экзамены на аттестат зрелости!
— Значит, вам семнадцать? Я старше. Старше на целый год и сильнее. Я очень сильная. — Она протянула перед собой крупные, тронутые загаром кисти. Сергей схватился за них, как за спасательный круг. Распахнутые его глаза смотрели в самые ее зрачки, погружаясь целиком в душу, в которой не было ни фальши, ни опасности, ничего, что могло оттолкнуть, ранить. Только чистота, жертвенность, милосердие. Бескрайняя любовь и нежность.
— Пожалуйста, не оставляйте меня. Вы нужны мне.
— А я без вас теперь просто не выживу! — Они обнялись, как давние близкие родственники после долгой разлуки. Как Рыцарь и его дама. Как мать и единственный сын… Марина с трудом высвободилась из объятий, ведь так стоять можно было вечно. А есть дела поважнее.
— Ждите меня здесь, я принесу вам молока. — Она сорвалась с места и исчезла. Он остался один на берегу. В висках звенело, голова кружилась, и все произошедшее походило на сон. О, как ему не хватало такого друга, такой родной чуткой души. Безраздельно преданной. И какое милое, милое, родное лицо! Неужели фантазия опять обманула?
— Пожалуйста, Господь наш, верни мне Марину. Всю жизнь до конца моих дней я буду ее послушным рабом. Любящим, надежным другом. Я буду ее ВСЕМ! И никогда не возропщу! — просил он у мироздания, представленного, казалось, от горизонта до горизонта во всей целостности.
— Вот — удалось выпросить у тетки из крайнего дома целую бутылку козьего молока, и бублики от татарина еще тепленькие. Будем пить по очереди.
— Я не голоден.
— Вздор! Есть надо непременно. Учтите, я буду за вами следить очень строго. Пейте сейчас же! — Марина взглянула на его профиль, ставший таким родным. Детские губы коснулись горлышка бутылки, на тонкой шее ходил кадык. Жеребенок. Нет, он всегда был родной. Мерещился, мерещился, сегодня нашелся.
«…наконец-то встретила надобного мне. У кого-то смертная надоба во мне» — эта формула отольется в строфу позже, но потребность родственного существа, существовавшая в Марине изначально — «до-родясь», так часто будет порождать фантомы, а она — ослепленная, кидаться навстречу, что ударам нет числа. Но Сергей — случай единственный и особенный. Именно ему и только ему она была жизненно необходима — как хлеб, вода, воздух, нужна любой, потому что любая — неверная, предававшая, отдалявшаяся, была талантливей, неповторимей, необычней всех.
— А молоко вкусное, полынью пахнет. И я вас давно — всегда искал. Здесь у Максимилиана живут две мои сестры, они очень милые. Я приехал из Феодосии навестить их, сижу на пляже и вижу вас. Меня как прострелило — ОНА!
— Не может быть. Я бы вас сразу заметила.
— Вы не смотрели по сторонам. Сидели на берегу рядом с Максимилианом и рыли песок. Так сосредоточенно. А потом сказали: «Макс, я выйду замуж только за того, кто узнает, какой мой любимый камень». Громко сказали, я даже подумал, что для меня.
— Правда, правда! Я помню! Макс посмеялся надо мной: «Влюбленные, как тебе может быть уже известно — глупеют. И когда тот, кого ты полюбишь, принесет тебе булыжник, ты совершенно искренне поверишь, что это твой любимый камень!»
— А помните, что вы ответили? Правда не помните? Вы сказали ему: «Макс, я от всего умнею, даже от любви!» — Лицо Сергея озарилось счастливой улыбкой: — А у меня, это, правда, маленький секрет, уже была эта бусина! Вот чудо-то! Я нашел ее в самом конце апреля и загадал, что вылечусь и все переменится к лучшему. Сегодня 5 мая. Прошло ровно семь дней.
— Это очень важно, Я верю — очень важно. — Марина вытащила из кармана матроски камушек. — Сегодня же повешу мой талисман на шнурок, — она сжала бусину в кулаке. — Не бойтесь, я ее никогда не потеряю. И не сниму никогда.
— Никогда-никогда?
— Никогда. И замуж выйду. Вы ведь сделали мне предложение?
Его лицо на мгновение озарилось удивлением, почти испугом. Сергей соскользнул на колени у ее ног, обхватил их руками, уронил лохматую голову на подол полотняной матроски.
Марина наклонилась и стала целовать залитое слезами лицо — мелко-мелко, нежно-нежно… Отстранилась, нахмурилась, сказала резко и честно, глядя в самую глубину синих бездн:
— Только я ведь совсем нехорошая. Вы должны многое обо мне узнать.
«…Поэтом обреченная быть…»
«Трудно говорить о такой безмерности, как поэт. Откуда начать? Где кончить? И можно ли вообще начинать и кончать, если то, о чем я говорю: Душа — есть все-всюду-вечно», — так начинает Цветаева воспоминания о Бальмонте, попытку расшифровки его, бальмонтовской, поэтической тайны. Ибо — у каждого поэта она своя. Душа, тем более окрыленная Даром, — предмет штучного производства. И верно — здесь ни начинать, ни кончать. Можно лишь подступиться слегка, дабы оправдать будущие оговорки в непомерность избранной темы.
Марина родилась Поэтом, а значит — отступлением от нормы. Поэтический дар предопределяет особый состав всего существа, включающего, кроме прочих известных, некие иные сути, близкие непознанным, мистическим. Если построить метафору в русле компьютерных аналогий, то набор программ в системе «Поэт» (или «Творец») особенный, индивидуальный, и, кроме того, находятся эти программы в неконтролируемом разумом взаимодействии. Кто и как руководит ими — не стоит гадать. Процесс творчества, да и формирования самого мироощущения творца, представляет собой фантастически сложное сочетание программ разного уровня, исследующих как пласты вселенского масштаба, так и пылинки микрокосмоса.
Личность поэта грандиозна и неизбежно деформирована, то есть является отклонением от усредненной нормы. Иной процесс восприятия информации, иной способ обработки, и главное — непременная устремленность к результату — получению преобразованной картины мира в виде сгустка поэтического текста. Поэт — инородец среди непоэтов, его устройство инако: «безмерность в мире мер». Но безмерность разная — разнонаполненная.