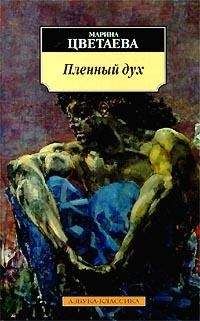Людмила Бояджиева - Марина Цветаева. Неправильная любовь
— Да я чувствую себя чудесно! Здесь должно быть эхо. — Сергей взобрался на камень и крикнул, сложив ладони: — Ма-ри-на! — Эхо не ответило.
— И не нужно нам этих туристических глупостей, — решила Марина. Она все привыкла решать самостоятельно: — Вашим эхом буду я. Говорите, Сережа. Прямо так говорите: Се-ре-жа!
— Се-ре-жа. — Он смущенно улыбнулся. Поднявшись на цыпочки, Марина выкрикнула во все стороны его имя, словно ставя печати. — Вам понравилось? Мне очень. Так приятно быть эхом у вашего имени. Знаете, люди любят писать: «здесь был…» Мы ничего не корябали, но я верю — все они, — Марина обвела рукой камни, скалы и море, — все они будут нас помнить всегда!
Они двинулись вниз по тропинке, петляющей среди камней. Сергей сорвал верхушку белесой полыни, растер в пальцах, вдохнул с наслаждением жмурясь:
— Итак, я продолжаю свой рассказ… Мой дед с материнской стороны, ротмистр лейб-гвардии, блестящий красавец, происходил из аристократического рода Дурново. Бабушка — из купцов. С отцовской стороны родня еврейская, и даже прадед, кажется, был раввином. Мои родители познакомились на нелегальном собрании революционеров-народников. Они были активными деятелями «Земли и воли».
— Знаю, знаю! Я много про них слышала. Еще был кружок «Черный передел»… Это чудесные люди, необыкновенной душевной чистоты и жертвенности. Я была знакома с революционерами, страшно завидовала Марии Спиридоновой, восхищалась героизмом лейтенанта Шмидта. Я была еще девчонкой в 1905-м, но как мне хотелось быть там — с ними. Стихи писала! Только они потерялись.
— Да… Да, Марина, у вас именно такая душа — чуткая, пламенная. Душа борца. Моя мать была из тех чистых идеалистов, которые болели за простой народ. Во имя идеалов добра и справедливости они вставали на путь террора. Мой отец, кажется, даже был замешан как-то в политическом убийстве. От меня это скрывали, я был слишком мал… Позвольте руку, — Сергей помог Марине спрыгнуть с камня. Нагромождение огромных глыб, застывших после извержения Карадага, напоминало о первозданных временах.
— Макс Волошин утверждает, что здесь и есть вход в Аид. Отсюда Орфей вывел Эвридику. — Марина задержала кончики пальцев Сергея. Они были прохладны, будто это он вышел из сырого подземелья. Вышел из мифа, из романтической баллады. Она не могла оторвать от него глаз — никого более прекрасного, утонченного, одаренного, искреннего и благородного Марина никогда не встречала. А одухотворенность тонкого лица, огонь в небесных глазах — дух захватывает. Тогда уже вертелось то, что будет написано позже:
…он тонок первой тонкостью ветвей.
Его глаза — прекрасно-бесполезны! —
Под крыльями распахнутых бровей — две бездны…
Я очень любил родителей. Уважал безмерно.
— У вас в самом деле удивительная семья! Это лучшие люди России, чудо, что мы встретились! Как интересно вы жили, Сережа!
— У мамы было много детей, но она посвятила революции всю жизнь. Наш дом всегда был полон нелегалами. Старшие братья и сестры тоже стали революционерами. Я был младшим, но хорошо помню с рождения эти разговоры, в которых все время звучали слова «народ», «свобода», «ссылка», «тюрьма».
Маму первый раз арестовали в 1880-м, а потом в 1906-м. Ей было уже за пятьдесят, она провела в крепости девять месяцев, но друзьям удалось освободить ее, взять на поруки до суда. Мама сумела бежать за границу с младшим сыном Костей. Мне было 14, и я остался на попечении старших сестер. Господи, кабы по-другому вышло! — Сергей сел на песок — они уже спустились на пляж, розовый под косыми лучами заходящего солнца. Опустил голову в ладони, сжал виски. Густые пряди упали на лоб, почти закрыли лицо. Марина догадалась — он плачет. Села рядом, обхватила плечи материнским жестом, прижала его голову к своему плечу. На шею падали теплые слезы. Ее залило любовью. Жалость, восторг, преклонение, желание разделить тоску этого человека, помочь — все эти чувства сплавились в единое сильное, так и ломившее под ложечкой огромное чувство: любовь.
— Хватит! Хватит рассказывать, давайте наслаждаться вечером. Сегодня он горит для нас — вон какое небо — прямо кистью выписали облака небесные мастера.
— Спасибо… Марина. Извините, раздерганный стал. Сейчас вы поймете сами. — Он высвободился из ее рук, вытер рукавом рубахи лицо, поднялся и, стоя спиной к ней, быстро заговорил почти скороговоркой: — В Париже Костя ходил в школу. Однажды зимой он пришел домой и повесился. Никто не знал почему. В газетах писали, что его потряс выговор, сделанный учителем. В ту же ночь повесилась мама. Их хоронили вместе. К счастью, отец умер за полгода до этого…
— Сережа… Простите… Я не знала, не знала..»— потрясенная, она тихо стояла рядом. Вот он — знак! Они осиротели почти одновременно. От каждого из них отсекли половину, потому так больно, так неудобно было жить. Она протянула к нему руки.
Сергей резко повернулся, сжал их с неожиданной силой:
— Пожалуйста… Пожалуйста, Марина, не уходите. Я знаю, что недостаточно крепок для борьбы. Недостаточно интересен для дружбы с вами.
— Да что вы такое говорите! Перестаньте! Напротив! Именно вы — интересны! Очень интересны. Я тоже недавно потеряла мать. В сущности, мы с вами осиротели почти одновременно… У нас общее горе.
— Вы держитесь, вы молодец. А я… Я почти сдался. Нет, выслушайте до конца. После… после этого несчастья здоровье мое окончательно расшаталось. Дом продали — прошлое кануло в Лету. Вся моя последующая жизнь превратилась в непрерывное лечение. Петербургские доктора обнаружили у меня туберкулез легких и предписали немедленный и строжайший санаторный режим. Начались скитания по русским и заграничным санаториям. Это такое одиночество, Марина… и такая обреченность! Нет, я не унывал! С утра до вечера лежал в шезлонге, читал, думал и главное — вспоминал. Мелькали лица, звенели голоса, из отдельных слов слагались фразы, воскресали целые беседы; вставали сцены недавнего милого прошлого. Понемногу я стал их записывать. Из этих приведенных в порядок воспоминаний составилась книга рассказов «Детство». Вот бы ее напечатать!
— Обязательно напечатаем! — Марину лихорадило. Ясноглазый Сергей был создан для нее — именно такой. Редчайшее родство душ, судеб, совпадение до мелочей: любимых книг, детских впечатлений. Он был виден весь, до потаенных глубин души, до последнего донышка. И он так нуждался в ней.
— Сядем и не будем больше говорить о прощаниях. Жизнь большая. И теперь все будет по-другому.
— Я болел четыре года, читал и перечитывал Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Льва Толстого и иностранных классиков. Из русских поэтов моим любимым оставался Пушкин. Из прозаиков больше всего волновали меня Достоевский и Толстой. Меня просто околдовывала их глубина и полная искренность.