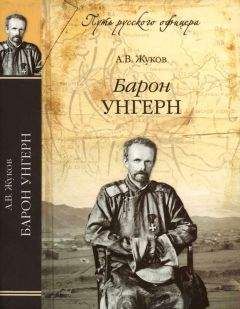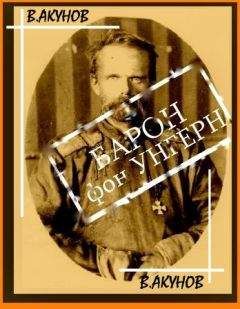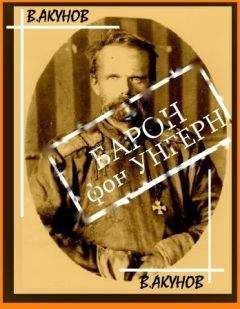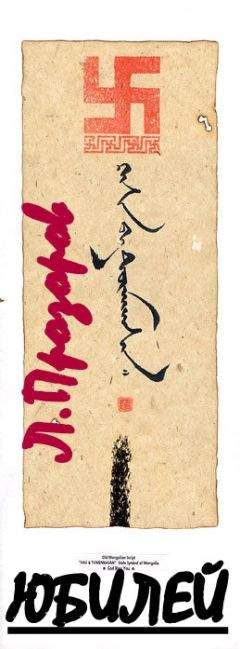Константин Паустовский - Близкие и далекие
— Мысли ваши держите в кармане рейтуз, — резко ответил Лермонтов.
— Ежели бы вы не ехали на Кавказ, под пули… — сказал, краснея, банкомет и осекся.
Лермонтов смотрел на него выжидательно и спокойно.
— То что бы случилось, позвольте узнать? — спросил он с вежливым любопытством.
— Да так… ничего, — пробормотал банкомет.
Ротмистр кивнул и бросил на стол пачку ассигнаций.
Лермонтов тоже вынул деньги.
— Здесь тысяча, — сказал он. — Иду на все!
— Вы об этом уже изволили докладывать. Вот ваша карта.
Офицеры столпились у расшатанного стола. Хмель сразу слетел с них. Всем было ясно, что Лермонтов играет неспроста. Не такой уж мальчик уродился, чтобы чего-нибудь не выкинуть. Только совсем юный и пьяный до беспомощности чиновник прокричал:
Вам не видать таких сражений!
— Замолчите! — ласково сказал ему Лермонтов.
Чиновник всхлипнул и затих. Лермонтов быстро открыл карты.
— Ваша тысяча! — сказал банкомет с наигранным равнодушием.
— Посмотрим, как вы отыграетесь, — сказал Лермонтов ротмистру, взял деньги, засунул их, не считая, в карман, кивнул и вышел.
С этой минуты Лермонтов с полной ясностью понял, что ротмистр послан следить за ним.
— Индюк! — зло сказал ротмистр банкомету. Тот удивленно моргнул красными от бессонницы веками. — Тюфяк! — повторил ротмистр. — Пропустил такой случай расквитаться с этим наглецом! Он же лез на ссору, а ты вильнул и скис. «Да так… ничего…» — передразнил он банкомета.
— От такого и тремя откупишься, — пробормотал конопатый пехотный капитан. — По всем повадкам видно — головорез!
Тогда вдруг зашумел чиновник.
— Стреляться с Лермонтовым? — закричал он. — Не допущу! Извольте взять свои слова обратно!
— Проспитесь сначала, фитюк! — брезгливо ответил ротмистр.
А банкомет еще долго сидел, недоумевая, и моргал красными веками, пока двое вдребезги пьяных драгун не взяли его под руки и не уложили на рваный, стреляющий пружинами диван.
После выигрыша Лермонтов пошел на Слободку.
К себе в «номера» он вернулся поздним вечером. Девочки в комнате не было. Слуга сидел у стола и лениво отковыривал ногтем воск на чадящей свече.
От внезапного тяжелого гнева у Лермонтова заныл затылок. Припадки такого гнева случались с ним все чаще. Последний раз так было на маскараде в Благородном собрании, когда великая княжна игриво ударила его веером по руке и сказала, что хочет причислить поэта к своим приближенным.
Но тогда этот гнев был понятен. Он не сдержался, сказал княжне дерзость.
Но почему гнев вспыхнул сейчас? Он не мог разобраться в этом. Может быть, потому, что в комнате не оказалось девочки, а может быть, от сонной и, как ему показалось, насмешливой рожи слуги.
— Подай мне мокрое полотенце, — хрипло сказал Лермонтов. — Свеча чадит, а ты сидишь как истукан. Где девочка?
Слуга начал мочить полотенце под медным рукомойником.
— Пить бы вам надо поменьше, — сказал он наставительно.
— Где девочка? — повторил Лермонтов, и голос его зазвенел.
— Кабы вы приказали мне ее караулить… — обиженно сказал слуга, но Лермонтов не дал ему окончить.
— Где? — крикнул он, и слуга отшатнулся, увидев его взбешенные глаза.
— Княгиня сюда заходили и увели ее к себе, — скороговоркой пробормотал слуга. — Что ж я, силком ее, что ли, буду держать, христарадницу эту!
Лермонтов вырвал из рук слуги полотенце, обвязал им голову.
— Ступай к себе, — сказал он, сдерживаясь. — И собирайся в дорогу. Завтра поедешь в Тарханы. К черту!
— Это как же? — спросил, прищурившись, слуга.
— Ступа-а-ай! — повторил Лермонтов так протяжно и яростно, что слуга, сжавшись, выскочил в коридор.
За дверью он перекрестился. «И впрямь лучше поеду, — подумал он. — А то еще убьет. Ей-богу, убьет. Смотри, какой бешеный!»
Лермонтов сел к окну, оперся локтями о подоконник и сжал ладонями голову.
Ночная прохлада лилась в окно из зарослей черемухи, будто черемуха весь день прятала эту прохладу в своих ветвях и только ночью отпускала ее на волю. Низко в небе вздрагивал огонь звезды.
«Надо пойти к Щербатовой, — думал Лермонтов. — Но можно ли? Там камеристка. Да все равно ничего не удержишь в тайне. Зачем случилась эта встреча? Опять пришла тоска, дурные предчувствия». Он привык к одиночеству. Иногда он даже бравировал им: «Некому руку подать в минуту душевной невзгоды». А вот сейчас и невзгода и есть кому руку подать, а тоска растет, как лавина, и вот-вот раздавит сердце.
Никогда ему не хотелось ни о ком заботиться. А вот теперь…
У него, как и у этой девочки, не было ни матери, ни отца. Сиротство роднило их, прославленного поэта и запуганную нищенку. Он думал, усмехаясь над собой, что, должно быть, поэтому он был так явно обеспокоен ее судьбой.
Он смутно помнил свою мать, — вернее, ему казалось, что он ее помнил, — ее голос, теплые бессильные руки, ее пение. Думая о ней, он написал стихи о звуках небес, о том, что их не могли заменить скучные земные песни.
За окном стучал в колотушку сторож. И как люди считают, сколько раз прокуковала кукушка, чтобы узнать, долго ли им осталось жить, так он начал считать удары колотушки. Выходило каждый раз по-иному: то три года, то девять, а то и все двадцать лет. Двадцати лет ему, пожалуй, хватит.
За спиной Лермонтова открылась дверь. Сквозной ветер согнул пламя свечи.
— Опять ты здесь, — сказал устало Лермонтов. — Я же говорил, чтобы ты оставил меня в покое.
Теплые руки обняли Лермонтова за голову, горячее лицо Щербатовой прижалось к его лицу, и он почувствовал у себя на щеке ее слезы.
Она плакала безмолвно, навзрыд, цепляясь за его плечи побледневшими пальцами. Лермонтов обнял ее.
— Радость моя! — сказала она. — Серденько мое! Что же делать? Что делать?
Оттого, что в этот горький час она сказала, как в детстве, украинские ласковые слова, Лермонтов внезапно понял всю силу ее любви.
Что делать, он не знал. Неужели смириться? Жизнь взяла его в такую ловушку, что он не в силах был вырваться. Дикая мысль, что его может спасти только всеобщая любовь, что он должен отдать себя под защиту народа, мелькнула в его сознании. Но он тотчас прогнал ее и засмеялся. Глупец! Что он сделал для того, чтобы заслужить всенародное признание? Путь к великому назначению поэта так бесконечно труден и долог — ему не дойти!
— Мария, — сказал он, и голос его дрогнул, — если бы вы только знали, как мне хочется жить! Как мне нужно жить, Машенька!