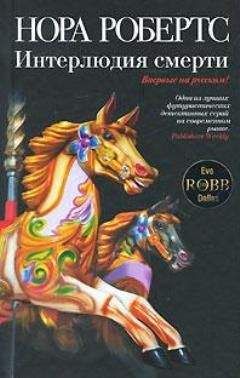Эрнст Юнгер - Семьдесят минуло: дневники. 1965–1970
На каждом шагу мы вспугивали крупных агам[222], которые точно белки с сухим шелестом взбегали по стволам. Пришло время покинуть сад; мы вернулись через крытый вход, обсаженный Amherstia nobilis[223]. Амхерсты были, должно быть, хорошо аспектированным родом; их именем назвали не только это роскошное дерево, которое знатоки считают the Queen of the flowering trees[224], но также самого великолепного из фазанов, да вдобавок еще город в Индии. Один из них был генеральным губернатором в Британской Индии, другой отнял у французов Канаду. Город между тем получил другое название, а вот дерево и фазан свое сохранят, пока существует система Линнея. Такие завоевания неприметнее, однако протяженнее во времени.
* * *Можно было бы еще о чем-нибудь рассказать, но собрание орхидей оказалось не лучше, чем в штутгартской Wilhelma или теплицах Далема. Только здесь не приходилось тратиться на отопление. Гибискус, китайская роза, имеющая бесчисленные разновидности, представлена в Сингапуре, как мы видели, богаче, чем здесь. И там же я слышал о парке одного любителя на Гавайях, в котором цвело свыше тысячи сортов.
Зато садовникам Парадения удался фокус, единственный в своем роде: выращивание двойного кокосового ореха, который достигает огромного для плода этого дерева веса почти в полцентнера[225]. Он происходит от стройной пальмы, растущей на двух маленьких островах Сейшельского архипелага. Долгое время были известны только плоды, выловленные в Индийском океане или прибитые волной к его берегам. Они считались морским чудом и, как бивень нарвала, демонстрировались в собраниях редкостей. На рубеже столетий сюда ввезли несколько молодых деревьев с Сейшельских островов. Как многие пальмы, эти тоже двудомные; в 1960 году одна из них зацвела женскими цветками, которые искусственно опылили. Поскольку этому слону среди орехов требуется десять лет, чтобы созреть, то урожай будет еще нескоро.
Вообще сад оказался максимально приспособленным для акклиматизации — конечно, не только из-за благоприятного местоположения, но и благодаря садовой традиции. Так, здесь сделала остановку гевея, прежде чем, следуя из Бразилии, распространиться по азиатским тропикам.
* * *Мы пробыли дольше, чем планировали, хотя прошлись, в сущности, только по саду. Ну и ладно, если это действительно оказалось «в сущности».
Не заезжая в город, мы пересекли университетский квартал, рассредоточенную систему институтов и жилых блоков, какие повсюду, в жарких странах тоже, повырастали из земли, точно грибы после дождя. Когда я вижу такую застройку, меня всегда терзает нечистая совесть, как то прежде уже случалось со мной на уроках математики, по крайней мере, у хороших преподавателей, когда вопреки всем их стараниям во мне совершенно ничего не оставалось, просто за недостатком участия. Должен признаться: пчелиные соты, которые я держу в руках, производят на меня более сильное впечатление и дают мне больше пищи для размышлений, чем силуэт Нью-Йорка. Там я чувствовал себя лучше всего только в китайском квартале.
Не то чтобы эти третичные порождения Геи не занимали меня — напротив. Прометиды велики только тогда, когда слепы. «Ты зришь Прометея, дарителя смертным огня». В ландшафте мастерской[226] необходимо преобладают динамические законы. Еще в Маниле толкотня одинаково одетых и почти бесполых учеников и студентов напомнила мне гнездо термитов. Через непродолжительное время, в конце нашего тысячелетия, эти массы приступят к действиям.
Электростанция тоже является храмом, только замечается это так же мало, как в храме замечается электростанция. Время имеет двойное освещение. К храму Святого зуба ведут напоминающие индусскую архитектуру входные ворота, скорее павильон. Он кажется старее, чем увенчанная взмывающими по-восточному зубцами окружающая стена и ее пристройки. То же самое касается восьмиугольной башни, на балконе которой, еще до прихода португальцев, в большие праздники народу показывались цари Канди. Святилище, в котором хранится зуб, охватывает внутренний двор. Вокруг таких точек — по мере славы, которую они приобретают, и с толпами паломников, которые сюда притекают, — всегда выкристаллизовываются новые капеллы, обходные пути, защитные стены. Аналогичным образом дело обстоит с Каабой в Мекке или с церковью Гроба Господня в Иерусалиме. А вместе с этим нарастает и деловитость.
Здесь, однако, время было мертво, и обол не взимался, исключение составляли седобородые нищие, которые повсюду возле индуистских храмов скромно держат в руке свои тарелки. Посетители входили и в качестве пожертвования приносили цветы, которые продавались у входа. Перед внутренним храмом стоял монах в желтой рясе — желтой, как цвет чистоты, мистер Феликс выразился так: «Safran desinfects the meat»[227].
Почитаемый уже почти две тысячи лет зуб заключен в семь драгоценных реликвариев и показывается только в редкие праздники. В эти дни выводятся также сотни украшенных слонов. О том, что мы, следовательно, не смогли увидеть зуб — он, кажется, был левым глазным зубом Будды — я сожалел меньше, чем о том, что нам не удалось бросить взгляд на запертые священные книги с написанными на пальмовых листьях текстами на языке пали[228]. Они очень древние и хранятся в угловой башне.
На реликвии вообще следует смотреть снисходительно; это справедливо и здесь. Чего только с этим знаменитым зубом не происходило — он не только в течение столетий перемещался по различным храмам, но и пережил несколько реинкарнаций. Однажды его похитили тамильские завоеватели, в другой раз он, как «идолопоклонническая мерзость», был даже сожжен португальцами. Затем появились сразу два новых зуба, оба считаются подлинными.
Только труп отбрасывает тень, не умерший. Просветленный оставил тело, которое служило ему транспортным средством во времени. Но всегда приходят управляющие наследством и распределяют одежду. Они знают нашу слабость, нашу страсть к прочной памяти. Поставлять ей материал издавна было прибыльным делом. Конфуций и Будда, оба в своем учении обошлись без богов, тем не менее, вынуждены терпеливо сносить то, что их почитают в храмах. Здесь следует похвалить Антония, который, уже при жизни прослывший святым, наказал своим ученикам сделать его могилу в пустыне неузнаваемой, дабы помешать паломничеству к ней.
Прилив и отлив толп празднично одетых паломников остается, однако, большим спектаклем, в сравнении с которым вопрос «подлинности» блекнет. Что, в конце концов, подлинного в Евангелиях? Или в какой-нибудь картине Рембрандта, ценность которой определяет не ее трансцендентная красота, а экспертиза профессоров? Это — заботы школяров. В глубине паломничество — это символ хорошего пути, который ищет завершения.