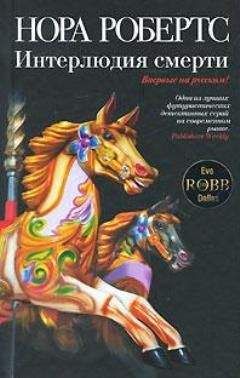Эрнст Юнгер - Семьдесят минуло: дневники. 1965–1970
Взгляд в сад Армиды[202], краткий, как воспоминание о ранней родине, не только родине детства, но и гораздо-гораздо более глубокой. Мы катили дальше по красной дороге, когда мистер Феликс вдруг прервал разговор, который мы вели на плохом английском, и велел шоферу остановиться. Он указал на канаву, тянувшуюся рядом с автострадой, и хотя я не был новичком в наблюдениях за растениями и животными, мне оказалось непросто выделить то, на что, собственно, следовало смотреть, а еще труднее поверить, что такое возможно.
Канава орошала поле, в тине которого почти голый крестьянин сажал рис. Второй позади него перепахивал водяным буйволом участок выгона. Я решил было, что должен смотреть на ибисов, которые следовали за пахарем почти у него под ногами и, как у нас вороны, выхватывали из свежих борозд добычу. Их было хорошо видно издалека благодаря шелковисто-белому оперению. Однако на краю канавы, с трудом различаемое на фоне жирной, коричневой земли, шевелилось еще что-то другое: выше человеческого роста четвероногое, которое то поднимало голову, то склоняло ее к поверхности воды и, пробуя ее, высовывало тонкий, как ремень, раздвоенный язык: ящер. Но еще разительнее самого допотопного существа была непосредственная близость человека, который, похоже, обращал на него столь же мало внимания, как и на ибисов. Другая огромная ящерица обследовала борозды чуть подальше.
С точки зрения зоологии речь могла идти только о варане, которых на Цейлоне водится два вида. Еще Геродот упоминает о могучем животном, которого он встретил в Египте и которого назвал «земляным крокодилом». Мы знаем его по зоопаркам. Но насколько иное впечатление эти ящерицы производят в средах обитания, напоминающих их прародину, например, в болотистых низменностях тропических долин. Тут вживе предстает не только животное, но облекается плотью мысль, его сотворившая, его трансцендентная идея.
Ретроспективный взгляд на Средневековье Земли, на великое время ящеров, вызывает мысли о плодородии, породившем не только индивидуумы, но также породы и виды, как будто непосредственно произведенные брожением первичной материи. Воображаешь ленивую расслабленность огромных тел в горячем фанго[203], подогреваемом вулканическими и радиоактивными силами.
Конечно, потребление соревновалось с плодородием, но опасность все же стала значительней. Иногда кажется, что оборот становится настолько сильным, что детали восприятия ускользают. Исчезают не только индивидуальности, но и их ценность; они становятся добычей, становятся пищей, независимо от того, каковы их свойства. Кайзерлинг[204] однажды нарисовал — если не ошибаюсь, в «Южноамериканских размышлениях» — картину ночного болота, из которого, точно из кишащего котла, далеко над девственным лесом разносится плеск и шлепки борющихся и спаривающихся тел. Взаимное пожирание, переход материи через цепь обличий, следуют друг за другом в ритме, который соответствует ритму вдоха и выдоха.
В этой связи человек вспоминает змею, поскольку она является самым ярким символом нераздельной и нерасчлененной жизни с ее властью и опасностью. Когда мы снова сидели в машине и возвращались в эмпирический мир, я спросил агента, как с ней обстоят дела здесь, на рисовых полях, и услышал в ответ, что опасаться приходится главным образом двух змей, а именно кобры и дабойи, называемой сингалезцами Tic-Polonga. Благоприятным обстоятельством, правда, может считаться то, что она охотится на плантациях только ночью, стало быть, не во время работ. А кобра боится человеческого голоса, потому-то крестьяне-рисоводы выходят утром в поле с криками и песнями. Она становится опасной только тогда, когда, преследуя добычу, пересекает дорогу. Впрочем, это случается довольно редко. Естественно, эта опасность не имеет значения для других, например, следующих на автомобиле, но здесь страшит именно отчетливая угроза; мы глядим сквозь трещину в структуре упорядоченного мира.
На этом пути от нас бы многое ускользнуло, не одолжи нам свои глаза провожатый. Он здесь родился, но тоже испытывал радость, которую дарил ему вид животных и растений. Без него мы не заметили бы и летающих собак[205], встретить которых я очень надеялся, ибо как Теннент, так и Геккель красочно описывают их огромные стаи, наблюдаемые ими в саду Парадения, одном из любимых мест этих гигантских летучих мышей. Здесь они устроились на дневной сон в кроне старого баньяна, прямо рядом с бензоколонкой, у которой мы сделали привал. Их можно было принять за большие, грушеобразные плоды или за красно-бурые окорока, подвешенные там для копчения. В бинокль удалось разглядеть их формы: они цеплялись за ветку ногами и, точно в пончо, заворачивались в летную перепонку, из которой наружу торчал только нос.
Непосредственная близость этих животных к поселениям тем более удивила меня, что они предпочитают охотиться не на насекомых, как наши летучие мыши, а на фрукты, прежде всего — на различные сорта бананов и фиг. Кроме того, своим весом они наносят ущерб тому, на что обрушиваются. Однако их, как я слышал, не отстреливают, а разгоняют трещотками.
Эта терпимость объясняет богатство животных на острове и их доверчивость. Такова отличительная примета населенной буддистами страны, зримое следствие выдающейся нравственности. Как ни в одной другой из высоких религий, растения и животные принимают участие в карме. Это убеждает больше, чем священные писания, храмы и произведения искусства; оно говорит непосредственно. Не только скуден, но и часто неприятен материал, какой можно найти по этой теме в Библии и у отцов церкви. Там, где благо, как в религиях Ближнего Востока, зависит от вероучения и монополизировано, Вселенная тоже становится нездоровой и парцеллированной. Пираты-христиане, высаживающиеся на острове: одно из ужасных зрелищ нашего мира.
Как редко в великих мировых планах удается согласовать caritas, ratio и potestas[206]! Там, где преобладает тепло и ему недостает силы света, возникает угроза ограниченности и темноты. По поводу предоставленного животным мира мистер Феликс дал историческое объяснение, какое я, помнится, прочитал когда-то, вероятно, у Глазенаппа. Царь Тисса, правивший на Цейлоне в тот момент, когда прибыли первые буддийские монахи, проводил, как и многие князья, дни на охоте. Однажды, когда он преследовал великолепного оленя и уже натянул было тетиву, чтобы убить его, животное исчезло в чаще, а вместо него предстал монах в желтых одеждах. Царь спросил, как он посмел спугнуть его дичь, и услыхал в ответ, что разрушать жизнь грешно.