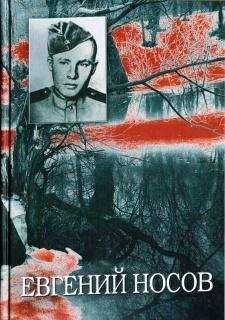Евгений Носов - Усвятские шлемоносцы
Но вот стоял он нынче с заплечным мешком перед ней, и та не заметила, не оторвалась от чужой подачки.
- Данька, Данька! - позвал он еще раз, играя голосом, не зная и сам, чего добивался от лошади.
Кобыла, услыхав привычный оклик, подняла голову, свернула глаз к заплечью и ненадолго, непомняще посмотрела на хозяина, деловито, размашисто жуя, гоняя рубчатые желваки по широким салазкам. Белое овсяное молоко проступило в ее сомкнутом сизогубом зеве.
- Это я! Али не видишь? - поспешил удержать ее взгляд Касьян и зачем-то посвистел, как при водопое. Но та, еще не дожевав, жадничая, опять сунулась в обслюнявленный ящик.- Эк поспешает! - обиделся Касьян,- Успеешь еще, день велик. Нынче и вовсе никуда не тронут. Некому трогать. Нынче у тебя пустой день.
Кобыла продолжала хрумкать, сопя и ширясь мордой по опустевшему ящику, и Касьян, дожидаясь, пока она управится и вскинет голову, униженно рассматривал приколоченную к столбу табличку. Когда вселялись в новую конюшню, он собственноручно выстрогал эту досочку и старательно написал чернильным карандашом крупно, с замысловатыми завитками эти четыре буквы "Даня". Потом какой-то лихоман перечеркнул букву "а", а сверху написал "у", и Касьян ночью выскребал ножом эту обидную, насмешливую букву.
- Ну дак чего... Пошел я...- растерянно проговорил он, оглянувшись на выход, мимо которого как раз промелькнул Пашка с охапкой сена.- Ладно, жуй, раз такое дело. Может, больше и не доведется. Овсеца-то. Без меня теперь будешь.
Он потянулся через прясло, прощаясь, почесал пальцами крутую конскую ляжку. Кобыла в ответ досадливо трепнула долгим белым хвостом, будто отмахивалась от докучливого слепня.
- Ну не буду, не буду... Твое теперь дело: кто дал - у того бери, кто ударил - тому беги,- проговорил он, неудовлетворенно, с обидой отступая от лошади.- Ну, бывай! Пошел я...
Касьян опасливо обернулся в оба конца, не видит ли кто этого его тайного свидания со своей давней застарелой болячкой, и, отступая от стойла, вдруг в конце прохода, среди ровного ряда хомутов, развешенных на столбах,каждый против своей лошади,- подцепил нечаянным взглядом какой-то лишний, ненужно выпиравший предмет. Всмотревшись, Касьян распознал морду старого Кречета. Положив тяжелую, сумеречно-серую голову на прясло, он затаенно следил из-за хомутов за Касьяном, словно догадывался, что видит его в последний раз.
- А-а, это ты! - обрадовался Касьян внимательному взгляду мерина, о котором как-то и не .вспомнил, и, наверно, не подошел бы, не попадись тот ему на глаза.- Ну как ты тут, а? Живой?
Касьян шел к нему, заранее протянув ладонь, будто для рукопожатия, и конь нетерпеливо загремел копытами, сунулся грудью в перекладину и безголосо заржал, издав какой-то долгий сухой сип, под конец которого прорезался немощно озвученный, изъеденный старостью голосок.
- Узнал, а? Узна-ал! - растроганно выговаривал Касьян, увидев, как рванулась к нему лошадь.
Он подошел и потрепал старого коня по замшелой гулкой скуле, и тот ткнулся колючими усатыми губами под Касьяново ухо, засопел довольно.
- Что ж ты не ешь, а? Али не естся? Ты давай ешь. Вон как твои друзья-приятели овес рушат. За ухи не оторвешь. И про прежнего хозяина забыли. А я ж их из грязи, можно сказать... Сколь болячек повымазал...
Конь, положив голову на Касьяново плечо, слушал, водил ушами, и эта доверчивая тяжесть была приятна и радостна Касьяну.
- А я, вишь, ухожу. Война, браток, война! Негожее дело затеялось. Сена не запасли, овес вон подчистили... Вот беда: и дать-то тебе нечего, нету гостинчика. Забыл я про тебя, запамятовал, что ты есть. Ну, прости, прости... Заморочили бабы голову, ревут да голосят. Насилу из дому вырвался... А ты дак не забыл - помнишь! Вот, видишь, как оно...
Наговаривая все это, Касьян в который раз сокрушенно шарился по карманам, ища хоть какую случайную корку, хотя бы зернышко для прощальной утехи коню, ведь всегда ж чего-нибудь носил, не являлся порожний. Но карманы, как назло, были пусты, должно, Натаха, сбирая одежу, все повытрусила оттуда, и от этого сделалось ему неловко и совестно.
- Как же я, а? Нету, нету ничего... Забыл начисто. И вдруг, задержав руку в пустом кармане, обрадованно замер.
- Постой! Как же нету? Как же это нету? Е-есть! Сичас, сичас, браток...
Он сбросил с себя мешок и, присев на корточки, принялся торопливо распутывать затянувшуюся петлю. Кречет, перегнувшись шеей через прясло, осторожно теребил губами картузную маковку.
- Ну как же нет? Вот же...- бормотал Касьян и, выхватив ковригу, ломанул от нее закраек.- На-ка, друг, испробуй солдатского!
Мерин потянулся к хлебу, но сразу не взял, а долго нюхал, тонко играл, вздрагивал ноздрями, вдыхая острый ржаной запах, и лишь потом робко, стеснительно, как бы не веря - не по чести,- заперебирал по горбушке губами, ловчась откусить истертыми до десен негодными резцами. И так и не откусив, вобрал все в рот и, зажмурясь, благодарно запахнув глаза, неспешно, словно вслушиваясь в душистое, солоноватое лакомство, повернул тяжело туркающую челюсть в одну сторону, в другую...
- Ешь! - подбадривал Касьян и, жалея лошадь, обломил о колено еще кусок.- Худо твое дело. Кабы не война, дак, может, еще б пожил промеж других. А то, вишь, война...
Когда Касьян впервые принял конюшню, Кречет уже и тогда в годах был, но еще выглядел крепким, богатым конем в серых морозных яблоках. Привел его с собой в колхоз ныне покойный Устин Подпряхин, а сколь жил до Устина и где обитал, где его настоящая родина, никто в Усвятах не знал. А нашел его Подпряхин аж в девятнадцатом году в Ключевском яру в полной сбруе, под боевым седлом. По-за тем яром по Муравскому шляху - Касьян тогда мальчишкой был - ходили конные сотни, секли друг дружку - то белые налетят, то красные,- и неведомо было, чей это конь, кому служил, за что бился. Коню ведь все едино, куда скакать, чьей рукой направят. За эту его темность Прошка недолюбливал Кречета, называл его в шутку контрой. Ну да, может, и был за конем грех какой, дак после того с лихвой изгладил вину: годов двенадцать на Устина рoбил, пятерых ребятишек таким вот хлебом на ноги поднял, да потом в колхозе, пока не избил копыта, пока не подошел край.
- Да, братка, не станут тебя больше держать. Хватит, скажут. Что поделаешь? Не до тебя теперь. Не помогальщик ты больше. Рази тем токмо пособишь, что шкуру отдашь на солдатские ремни... Так что ешь. Последний твой хлебушко. Не увидимся больше...
Касьян поддавал ладонью, помогал Кречету взять остро растопыренные корки, сминал кулаком потуже мякиш, уже не замечая за словами, сколько раз ломал от ковриги.
Неожиданно кто-то поддал его в спину, и Касьян увидел Варю, тянувшуюся к нему из соседнего стойла. Отросшая порыжелая челка рассыпалась по ее шоколадной морде с белой пролысиной. Кобыла, коротко гоготнув с густой сдержанной мощью, ревниво скосила на Кречета темно-сливовый зрак с отраженными в нем квадратиками противоположного окошка. Под ее боком толокся такой же шоколадный и тоже с белым переносьем сосунок, дрожливо, как лесная коза, нюхал поверху хлебный воздух, еще не ведая, что это такое, беспонятно волнуясь, перебирая копытцами.