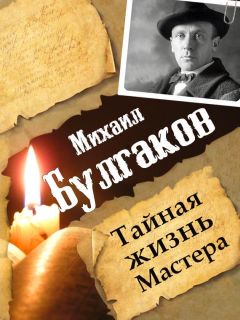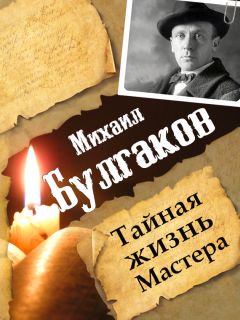Евгений Носов - Слово о родине

Обзор книги Евгений Носов - Слово о родине
Евгений Иванович Носов
Слово о Родине
Евгений Иванович Носов родился в 1925 году в селе Толмачеве под Курском, на высоком берегу Сейма, — в краю, отмеченном летописями, воспетом автором «Слова о полку Игореве», Тургеневым и Фетом, Никитиным, Кольцовым и Буниным…
Некогда называемый «диким полем» и служивший порубежьем между русскими поселениями и кочевниками, южный край Среднерусской возвышенности славился людьми, которым волею судьбы приходилось осваивать традиции полувоенного уклада жизни, не оставляя при этом хлебопашеского ремесла. Самый характер пространства как бы подчеркивает здесь свои особенные преимущества для ратной битвы и крестьянской жатвы — до самого горизонта, сколько хватает глаз, простираются поля, перебиваемые редкими лиственными лесами да размежеванные тихими водами Дона и Цны, Сейма и Псёла…
Оглядывая здешние просторы с высокого увала, невольно преисполняешься чувством святости этих мест, проникаешься мыслью о значительности отечественной истории — взгляд останавливается то на поросшем муравой кургане, древней сторожевой веже, то устремляется вослед извивам Муравского шляха, ведущего за Остомлю, на Куликово поле, то ищет вещественных свидетельств «железного» сражения на Курской дуге…
Кажется, и возделанные поля, и перелески, и буйно цветущие луга, и редкие курганы с дремлющими на них степными орлами, и праздничные посады по высоким берегам рек, и небо с лениво плывущими облаками, и просторно открытые дали с их тревожной тишиной — все вокруг проникнуто «сюжетами» произведений Е. Носова — от первой книги «На рыбачьей тропе» до повести «Усвятские шлемоносцы». Можно сказать, каждая птаха над головой и былка под ногами, каждая речная излука подтверждают здесь подлинность написанного Е. Носовым — столь вещественно, до мельчайших подробностей, воплотились в его творчестве лад звуков, букет красок и запахов, календарь фенологических состояний родной южнорусской лесостепи…
Сама стихия южнорусского говора, его лексика и мелодическая окраска нашли в Е. Носове своего знатока, бережного хранителя и выразителя, не злоупотребляющего, однако, областным словцом или фонетическим натурализмом, но и не отчуждающего человека от конкретной исторической языковой среды. Следует сказать и об умении Е. Носова, несмотря на сложность современной демографической ситуации, находить тип коренных курян, о которых В. Даль писал, как об особом племени, так характеризуя их внешность: «…приземистые и плотные, широколобые, волос темно-русый или рыжий, глаза карие…»
Короче говоря, Е. Носов пришел во всесоюзную литературу со своим особым материалом, осмысленным на свой особый образец. Это обстоятельство необходимо иметь в виду, когда мы говорим о главном в его творчестве и в реализме и конкретно-историческом отражении жизни вообще. Названные категории без «почвенной» историко-географической конкретики теряют всякий смысл, и разговор о них превращается в голое теоретизирование об отвлеченной — безъязыкой, беспейзажной и безликой — словесности. Проза Е. Носова потому и стала общенародным явлением в литературе, что она имеет свое лицо, свой норов, свою походку, свой стиль и язык…»
«Свое», «свой» в данном случае не означают, конечно, лабораторно полученного, выдуманного, искусственного, они только подчеркивают исконно народное, глубоко понятое и воплощенное писателем в его произведениях.
Искусство Е. Носова имеет и глубокое социально-нравственное укоренение в родном краю; он вырос и «образовал» свое сердце и ум среди полей, лесов и рек, в атмосфере хлебопашеского и ремесленного труда. Отец его, Иван Георгиевич Носов, ударник первых пятилеток, был потомственным мастеровым, перенявшим кузнечное рукомесло от деда, походившего на былинных ковалей. «Помню, — писал Е. Носов, — как ходил с дедом в ночное: сизотуманный луг, блекло, призрачно мерцающий под луной росными травами, темные силуэты коней, скрип коростеля, кизячный костерок с булькающим кулешом, уютное тепло старого полушубка… Да мало ли что вспоминается из той, теперь уже далекой, но неизменно волнующей воспоминаниями деревенской жизни, где нехитрый крестьянский труд накрепко слит общением с природой. Никогда не забыть первой вешней борозды в звонком жаворонковом поле, шаткую, трудную поступь деда по рыхлой, только что перевернутой земле, когда я, тоже запинаясь, тянул в поводу лошадь и над моей мальчишеской головой дышали ее мягкие горячие ноздри…»
Сам уклад жизни, не располагающий к праздности (шли годы коренного, социалистического переустройства деревни), естественным образом воспитывал и развивал в будущем писателе любовь и уважение к труду и людям незаметных, но жизненно необходимых профессий, к неброской и печальной природе среднерусской полосы.
Повседневные житейские нужды полуголодного детства вполне уживались в ребенке с романтическими мечтами, навеянными таинственной жизнью трав и деревьев, зверей и птиц. Увлечение живой природой разделял с ребенком и отец (вообще у людей, занятых трудным добыванием насущного хлеба, и досуг, как правило, бывает здоровым, осмысленным и праздничным): по воскресеньям, надев чистую рубаху, он «брал ножницы и принимался вырезать из бумаги фигурки… однотипные, примитивные подобия лошадей и наклеивал их на оконное стекло. «А сейчас собаку сделаем», — приговаривал он и вырезал такую же лошадиную фигурку, но только с крючкообразным хвостом».
«Отцовские «наскальные» кони, — вспоминал Е. Носов, — побудили меня внимательно вглядываться в окружающий мир, разожгли негасимый мальчишеский интерес ко всему живому, страстное желание воспроизвести все это с помощью ножниц, а затем и карандашом. Рисовать я научился рано, что-то с пяти лет. Этим я обязан своему отцу, о чем он даже не подозревал». Вскоре иллюстрации из увесистых томов Брема будут воспроизведены в домашнем альбоме — «отчаянный поступок, — заметит Е. Носов, — сыгравший потом немаловажную роль не только в самообразовании, но и в творчестве… И до сих пор я зрительно помню огромное количество животных, помню их краски, образ жизни, районы распространения и т. д., а главное — свободно рисую их по памяти».
Пристрастись к рисованию, промышляя в детстве рыбной ловлей, охотой, собирательством трав (этих занятий художник не оставляет и поныне), Е. Носов до необычайной остроты развил в себе способности пластического, живописного восприятия действительности во всем многообразии ее красок, звуков, запахов и переменчивых состояний — мало кто из современных русских прозаиков может соперничать с ним в изобразительной силе письма.
В произведениях Е. Носова, небольших по объему, удивляет умение писателя не только рельефно представить и глубоко выписать определенный характер, но и одарить читателя ощущением конкретного пространства, бытовой обстановки, показать человека во всей полноте его связей с реальностью — неожиданное и редкостное сочетание конкретности, сильного изобразительного, живописного начала с лаконизмом выражения.
В прозе Е. Носова ничего нет «вообще»: его герой ест, и мы видим, как он по-крестьянски сопровождает ложку на пути ко рту куском хлеба; и идет он «по борозде, босыми ногами ощущая влажный холодок перевернутого пласта земли»; не вообще работает, а косит «широко и жадно», изредка распрямляясь, смахивая со лба волосы и поглядывая на скошенные валки; не просто вдыхает ароматы, а чувствует, как «терпко, дурманно пахло каратинным настоем, напитавшим росу и ночной воздух», видит не абстрактные деревья и травы, а «резное кружево кленовых листьев», «тучные набрызги завязи», пестревшие багряными головками клевера, синие колокольцы, лупастые звезды ромашек…
Весь насущный, материальный мир в его произведениях действует на глаз и слух: «…неспешно наплывала на луга туча в серебряных окаемках. Вставала она высокая, величавая, в синих рушниках дождей, разгульно и благодатно рокотала и похохатывала громами и вдруг оглушительно, весело шарахала в несколько разломистых колен, и стеклянным перезвоном отзывалась Десна под теплыми струями ливня»; на обоняние: «В амбаре было, как всегда, сумеречно и прохладно, хорошо, домовито пахло зерном, и он невольно и глубоко вдохнул успокаивающий житный воздух, к которому едва уловимо подмешивалась сладковатая горечь сухой рябины… развешанной по стенам…»; на осязание: «Он живо ощущал сквозь чуткие резиновые сапоги холодок мокрой травы»; на вкус: «…помидор, заблестевший сахаристым инеем на изломе».
И совсем уж непостижимым, колдовским искусством кажется сцена в ночном из «Усвятских шлемоносцев», когда обыкновенную мирную за полночь над лугами нарушил натужный и трудный рев неприятельского бомбовоза: «Стихли, перестали взмахивать своими прутиками перепела. Затаился, оборвал сырой скрип коростель… Кони… замерли недвижными изваяниями». И дальше, после того как удалился и пропал гул от первого самолета: «…едва все наладилось, пошло своим чередом, едва кони вспомнили о траве, как на востоке снова вкрадчиво заныло, занудело, разрастаясь вширь упрямым гудом. И опять в надсадном напряжении всех своих моторов черной отрешенной громадой прошел другой такой же бомбовоз. И было слышно, как от его обвального грохота тонко позвякивала дужка на боку Касьянова котелка».