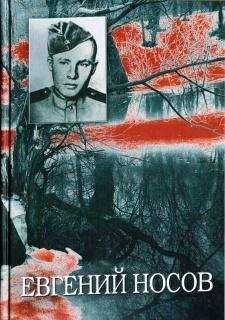Евгений Носов - Усвятские шлемоносцы
Все у Касьяна в тот год вроде бы ладилось и ладно складывалось для ровной жизни в посильных трудах, но вот завелся в Усвятах колхозец и стал поперек всех его планов, расколол мысли надвое. Что это за новшество, многим не особенно было понятно, и поначалу принимали его не все и не сразу. Мужики при хозяйствах осторожничали, тянули время, кое-кто распродал со двора лишки на тот случай, что если придется вступать, то уж с меньшей потратой. Касьяну колхоз тоже показался не ко времени, да и кое-кто не советовал вязать себя с ним. Но все ж для себя нашел он иной выход, казавшийся ему разумным и справедливым для обеих сторон. О себе заявил так, что-де не против вступить в колхоз, но с тем условием, чтобы и конь, и полок оставались при нем, на его дворе, а он, когда надо, работал бы вместе с конем на общий котел. Уже тогда севший править артелью Прошка показал ему обидную дулю, сказавши, что таких хитропопых подрядчиков ему не надо: вступать так вступать а не вступать - так и нечего голову морочить... Хорошо ему, Прошке, фигу показывать - сам-то он безлошадно, налегке вступил, и Касьян рисовал себе невеселую картину, как кто-то чужой запряжет его Даньку, навалит на телегу сверх всякой меры и совести, огреет кнутом, бестолково задергает вожжами, заорет матерно и не пособит, не слезет с повозки, когда его, Касьянова, Данька, выворачивая из суставов ноги, будет полоумно выпластываться, лезть из хомута на последнем узволоке. Кто ж побережет не свое, думал он тогда. И подавая наконец заявление, поставил колхозу новое условие: вступить он не возражает с конем и с телегой, даже прибавит к тому соху, хорошую железную борону и пару полотен кос, но чтоб непременно назначили его конюхом. "Да что ты все ультиматумы ставишь? - вскинулся тогда Прошка-председатель.Пан-барон нашелся, понимаешь!" Но, вспомнив, что Касьян отбывал действительную фуражиром, согласился удовлетворить его, как он выразился, "каприс" и назначил на должность временно, до общего собрания - как оно скажет. С той поры так и пошло: конюхом да конюхом - вот уже целый десяток колхозных годов. Сперва рядовым, потом и старшим. Свою хозяйскую дотошность Касьян, обвыкнув в колхозе, перенес и на общественное добро: терпеть не мог изодранной и пересохшей сбруи, расхристанных хомутов, как попало сваленного лошадям сена, ворчал из-за каждой потерянной подковы, и не дай бог, если кто возвернет с поля коня с потертой холкой...
За время своего конюхования привязался он ко многим лошадям, иных выходил с сосунковой поры, иные выдурились почище Даньки. Мечталось завести даже донцов, подбивал на это Прошку-председателя, но тот, узнав, сколько стоит чистокровная матка, замахал обеими руками, отвернул нос: "Иди, иди, не дурей! За такие деньги два трактора можно купить". Но Касьян не отказался от своей задумки: тем же летом выбрал самую ходкую и статную кобылу Челку и, не сказав никому, махнул на ней в Подзвонье на конный завод. За хороший магарыч, так что и сам вернулся без шапки, поставил ее с записным жеребцом Перепелом, и объявилась первая в Усвятах дончиха. Вон она стоит в шестом стойле - подпашистая, сухомордая, в белых чулках. И назвал он ее по всем заводским правилам: от клички отца взял первую букву "П", приставил к имени матери, и получилось, как влилось,- Пчелка. Всего пока полукровка, но уже по всей справе видать, что не простого замеса лошадка,- красота с огнем пополам! Прошка-председатель присматривался, удивлялся: "Что за краля? Откуда такая?" Должно, метил в свои бегунки. То-то что и оно - откуда... Не случись война, на другой год опять бы съездил в Подзвонье, уже на самой Пчелке, чтоб еще больше приблизить потомство к настоящим кровям. Да, видно, конец всему, того гляди, и самую Пчелку вот-вот заберут...
Были у него и еще коньки хороших статей, стригунки, часами б глядел на сорванцов, как вынашиваются они, на скаку покусывая друг другу холки, или встают друг перед дружкой на дыбки, под грудь загибают шеи. В табуне, что в колоде, есть и козыри, есть и шестерки - всякие, но Данька шла по особ статье: своя лошадь.
Четырнадцатое лето дотаптывает его Данька - три до него да десяток трав под его доглядом. Правда, росточком так и не вышла и даже вроде как ниже стала, оттого что раздалась задом, разломилась повдоль сытой спиной,- от былого, конечно, ничего не осталось, но масть и теперь красит - видная лошадь! В первые годы, уже будучи колхозным конюхом, набрасывал Касьян на нее седло покрасоваться перед миром, когда выгонял табун в ночное, дескать, знай наших! Потом растолстела, разбочкалась, под седлом неудобна стала, и Касьян года три как пересел на рослого Ясеня. Хотел и дальше вести от нее редкую масть, да не сыскал пары, такого же молочнотопленого конька. А хорошо б было! От своих же, усвятских, несла она всякий разнобой, двух жеребяток почему-то сбросила, а главное - получались они и самой мельче. Какие-то нелады у нее с племем, не способная к этому. Сказать по совести, малость просчитался он с ней: вгорячах, когда покупал, мерещилось большее. Масть-то масть, да не слезь в грязь. Оказалось, лошаденка-то без старания, норовом себе на уме - лишнего не положи, в паре без кнута валек не натянет, а чуть что - и куснуть горазда. То ли была отроду такой, то ли уже здесь, в колхозе, забаловалась. В своем хозяйстве эта порча сразу бы и обнаружилась, а тут, за другими лошадьми, как-то не примечалось. Да кто ж знал! Иной вон и бабу за одни глаза берет, размечтается, думает, царевну ухватил, ни у кого такой нету... И все ж любил ее Касьян, может, потому, что сам на ней не пахал, не сеял, а только ходил, да чистил, да глядел на буланую шерстку. Между тем мужики брали ее в наряд без особой охоты, когда уже выбрать было не из чего, и это задевало Касьяна. Знал он и про то, что бивали ее, с глаз отъехавши, но промалчивал. За другую лошадь поднял бы шум, начертыхал бы по самую завязку, а тут - молчок, неловко было за свою лаяться. Иной раз вернется кобыла на конный двор, а на пыльном гузье - свежие полосы, следы осерженного кнута. Может, и за дело бита, да и как не за дело, но Касьян состроит вид, будто не заметил, замкнет рот а в самом заворошится обида пополам с жалостью. И жалея, потом в ночи украдкой подсыплет, хоть на пригоршню, да овсеца побольше, а сенца помягче...
Но вот стоял он нынче с заплечным мешком перед ней, и та не заметила, не оторвалась от чужой подачки.
- Данька, Данька! - позвал он еще раз, играя голосом, не зная и сам, чего добивался от лошади.
Кобыла, услыхав привычный оклик, подняла голову, свернула глаз к заплечью и ненадолго, непомняще посмотрела на хозяина, деловито, размашисто жуя, гоняя рубчатые желваки по широким салазкам. Белое овсяное молоко проступило в ее сомкнутом сизогубом зеве.
- Это я! Али не видишь? - поспешил удержать ее взгляд Касьян и зачем-то посвистел, как при водопое. Но та, еще не дожевав, жадничая, опять сунулась в обслюнявленный ящик.- Эк поспешает! - обиделся Касьян,- Успеешь еще, день велик. Нынче и вовсе никуда не тронут. Некому трогать. Нынче у тебя пустой день.