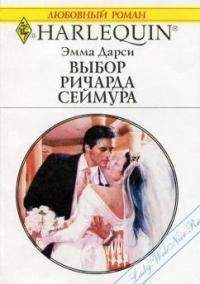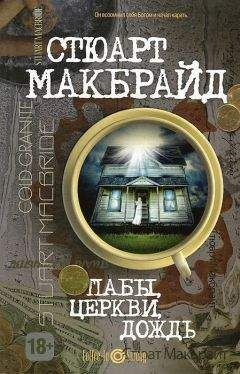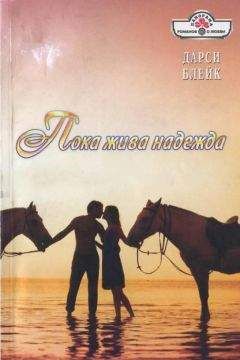Борис Дьяков - Повесть о пережитом
— До свидания, Клавдия Александровна!
Из перевязочной я зашел к Конокотину. Он лежал на койке в дальнем углу палаты. Встревожился, узнав, что меня отправляют в этап, да еще на лагпункт 043, который все на трассе зовут «штрафной колонной».
— Разлучают… — скорбно проговорил он. — Присядьте.
— Еще со многими надо проститься…
— Все равно, перед отъездом полагается присесть… Увидимся ли?..
Я сел у изголовья Конокотина. Он молча держал меня за руку. И вдруг взглянул глазами, наполненными ужасом.
— Скажите… а если… все это… все мы здесь… с ведома и указания его?! — спросил он сдавленным голосом, порывисто откинул одеяло и приподнялся. — Я, кажется, с ума схожу!
В дверях появился Крючок.
— В акурат тут! Мать твою вдребезг!.. По всей зоне ищу! Выдь!.. Мигом на вахту!
На пороге палаты я задержался. Поднял руку. Конокотин тоже.[22] И, подняв, он заслонил свое лицо.
У ворот вахты выстроились этапники. Я оказался крайним, рядом с Николаем Павловым — «таежным поваром». Было нас двадцать восемь. На спинах — мешки, в руках — котомки, на головах — марлевые сетки. А на ногах — у кого кирзовые ботинки, у кого боты «ЧТЗ». Я держал под мышкой коробку с пенициллином. «Только бы не уронить, не разбить!»
В рядах однотонное гудение, похожее на гул отзвонившего колокола.
Быстро вечерело. Пряталось темно-малиновое солнце…
Надзиратели проверили, у всех ли в порядке номера на спинах. Ощупали каждого. Приказали: «Сидоры — на землю!» Ощупали и сидоры. У двух-трех что-то заподозрили, высыпали вещи на землю, в пыль. Ничего не нашли…
На крыльцо выплыл Нельга с формулярами в руке. Начал выкрикивать:
— Фамилия? Имя, отчество? Год рождения? Статья?..
Ко мне подошли Тодорский и Ульмишек. Потом Флоренский, Толоконников, Толкачев, Ром.[23] Федя Кравченко не смог прийти к вахте: лежал с высокой температурой…[24] Говорили обо всем и ни о чем. Только не об этапе. Но говорили так, словно скоро все должны встретиться.
Послышался шум поезда.
— Пригото-овься-я! — заорал Нельга.
Я обнялся с друзьями.
— Александр Иванович! До свидания! Обязательно увижу тебя в погонах советского генерала!
Тодорский улыбнулся.
— Ты безнадежный оптимист!
Ворота раскрылись. В них — офицер конвоя.
— Внимание! Идти прямо. Шаг вправо, шаг влево считается побегом. Оружие будет применено без предупреждения!.. Взяться за руки!.. Шагай!
Согнувшись под тяжестью мешков, мы двинулись. Из ворот выползло как бы единое разноликое и многоногое живое существо…
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
В глубине тайги
Поезд остановился на полустанке. Вытряхнулись из вагонов в какие-нибудь две минуты. Было светлое утро. Ночью прошел дождь, земля лоснилась, сверкали лужи. Первое сообщение приятное: вещи нести не надо, их повезет полуторатонка. Второе — менее приятное: до лагерного пункта семь километров.
Выстроили нас в шесть рядов, подвели собак, взяли на изготовку автоматы.
— Шагом марш!
Ноги разъезжались по липкой грязи. Слава богу, конвоиры не подгоняли. А мы шли медленно. Одно сознание, что впереди штрафная колонна, не вселяло бодрости.
Николай Павлов и здесь оказался рядом со мной. «Успокаивал»:
— Что там, что тут — один черт подыхать!
С жадностью набрасывалась мошка. После дождя она особенно свирепая. Мы были в сетках, но руки оставались незащищенными, их надо было держать за спиной, по-тюремному. Мириады черных точек кружились над нами, впивались в пальцы, лезли в рукава.
Павлов толкнул меня локтем:
— Гляди! Бабы…
Справа от дороги рыли землю заключенные женщины. Они были одеты очень пестро: кожанки, пальто, ватники, спортивные куртки. Лица укрыты накомарниками.
Увидели нас и застыли на месте. Ругань конвоиров на них не действовала. Мы стали двигаться еще медленнее.
Вдруг оттуда крики:
— Товарищи! Мы ваши жены!.. Мужайтесь, товарищи!..
Кверху поднялись десятки лопат, облепленных землей.
Мы замялись, остановились.
Лица конвоиров ощетинились.
— Впере-ед!.. Впере-ед!
Никто не шелохнулся.
— Ложи-ись!.. Стреля-ять будем!
Заметались, загавкали овчарки.
Один… два… три выстрела в воздух.
Мы упали лицом вниз. Я угодил ладонями в дождевую лужу.
В рядах женщин взвился звонкий девичий голос. К нам летела какая-то протяжная песня…
— Вста-ать!
Поднялись.
— Бего-ом!
Мы, не торопясь, зашагали дальше по таежной дороге.
Угоняли и женщин. Они оборачивались, срывали с голов сетки, махали ими. А песня все летела и летела к нам…
Перед воротами штрафного пункта — команда:
— Садись!
Сели в грязь.
Приказ:
— Снять накомарники!
Сняли.
Мне все было безразлично. В ушах звучало: «Мы ваши жены… Мы ваши жены…»
Толчок в спину.
— Эй, ты! Уснул, что ли?.. Твой сидор?.. Чего в коробке?
— Лекарство… Пенициллин.
— Не положено.
Семикилометровый путь, падение, бег отразились на моей ране. Она сильно кровоточила.
В бане принимал этап врач, поляк Бережницкий, до ареста живший в Западной Украине, — высокий, узкоплечий, лицо продолговатое, на месте левого глаза протез. Под белым халатом — стоптанные хромовые сапоги.
— Больного — и на рабочую колонну? А-ай!.. Матка боска, матка боска!..
Меня отвели в санчасть, уложили на койку.
Во время марша мечталось, как о чуде: дойти, вытянуться на нарах, хоть на полчаса уснуть!.. А тут — отдельное ложе, одеяло, а сон пропал… «Товарищи! Мы ваши жены!.. Мужайтесь, товарищи!..»
Мысли сначала обратились к Вере. «Спасибо, судьба сжалилась над ней!»… Потом — к Клаве, жене моего учителя в журналистике редактора Швера…
Дружба с Клавой, талантливой, требовательной журналисткой, завязалась еще в тридцатом году. Сколько было общих радостей, сколько вместе придумывалось полосных шапок, статейных заголовков, сколько наших очерков, передовых разбиралось по косточкам!.. Ее арестовали в тридцать восьмом, в Хабаровске…
Мне живо представилось, как Вера и я встречали освобожденную из лагеря Клаву на Казанском вокзале Москвы. Она робко спускалась со ступенек вагона — длинная, худая, глаза затуманенные горем. В руках — деревянный ящик-чемодан. Наверно, думала: «А не боятся ли они этой встречи? Не досадуют ли, что пришли на вокзал?..» Крепкие объятия, букет цветов рассеяли ее страх. Она улыбнулась и, словно извинительно, спросила: