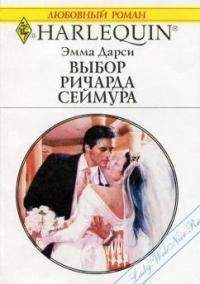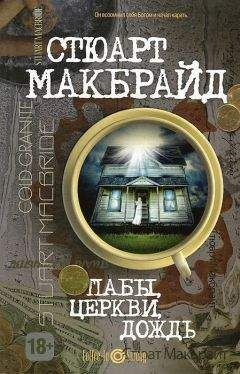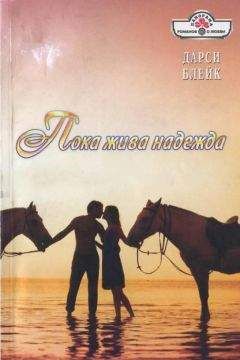Борис Дьяков - Повесть о пережитом
— Какой фельетон? В программе его нет.
— Подготовили. Объявляй!
— А кого прорабатывают?
— Тебя!
— Меня?! За что?
— За «мертвеца».
— Это же подло!
— Лихошерстов приказал…
— Не буду объявлять! — категорически отказался я.
— Тогда придется мне…
Эмир вышел к рампе. Со сцены он всегда почему-то шепелявил:
— Шченический фельетон! В роли медштатиштика наш «Карандаш». Ожившего мертвеца исполняет Олег Баранов!
Ложь была инсценирована…
Не дождавшись окончания концерта, я смыл румяна и ушел в барак, в тишину.
Ночью у меня поднялся сильный жар. Голова и лицо покрылось сыпью. Пришел Бачинский. Осмотрел.
— Нуте-с?.. Нуте-с?.. Перенервничали, молодой человек!
Поместили меня в четвертый корпус, в палату, где лежали агроном с Украины (умирал после инсульта), гитлеровский староста с «пляской святого Витта» и харбинец-радиодиктор, с которым я встретился на Новосибирской пересылке, сын русского белоэмигранта. От стен пахло плесенью.
Днем дважды появлялся в корпусе Баринов. Подходил ко мне, интересовался температурой.
Бачинский позвал меня в процедурную.
— Учтите, главный врач целый месяц не был у нас, а сегодня уже вторично. Это он к вам. Имеете солидную защиту!
— Преувеличиваете, Ярослав Владимирович. Баринов не защитник для нашего брата. Разве не знаете его знаменитую фразу: «Прежде всего я чекист, а потом уже врач»?
Бачинский задумался.
— Где-то я читал замечательную мысль: «Все победы начинаются с побед над самим собой»!
Однажды я вышел на корпусное крылечко. День был ветреный. Мошка притихла.
Неподалеку проходила Череватюк.
— Здравствуйте, гражданин начальник!
Она подняла голову.
— Здравствуйте.
Остановилась. Посмотрела в мою сторону. Скрылась в дверях канцелярии.
У меня внезапно созрело решение. Вернулся в палату… Карандаш стремительно забегал по бумаге: «Что я делаю?! Это невозможно! Я же заключенный!..» Но какая-то сила толкала меня.
Немного погодя я вошел в кабинетик Нины Устиновны.
— Была уверена, что придете, — сказала она, дымя папиросой. — Садитесь.
— Меня оклеветал Лихошерстов.
— Знаю.
Я положил на стол тетрадный листок. На нем:
«Секретарю партбюро лагпункта 02… От члена ВКП (б), заключенного № АА-775…»
Череватюк прочитала. Вскинула на меня глаза.
— У вас температура. Идите в корпус…
Томительно тянулись дни.
Вскоре я один остался в палате. Радиодиктор выздоровел. Старосту перевели в хирургический.
Баринов по-прежнему заходил в корпус, как бы мимоходом навещал меня, щупал мою голову.
— Сыпи меньше, меньше! — утверждал он.
Забежал как-то Ульмишек:
— Конокотину плохо.
Вслед за ним — Эмир:
— Тебе посылка с пенициллином. Завтра Лихошерстов привезет…
Появился Дорофеев.
— Прощай, Дьяков! Ухожу на этап. На авторемонтный!
Новость была неожиданной. «Проштрафился, что ли?»
— Со мной вместе уезжают и Котик, и Мишка из спецчасти… Так сказать, по «внутренним соображениям»… Начальники «регулируют»… Ну, и хрен с ними! Всюду есть человеки…
Дорофеев нервно протирал стекла очков, жмурился, покашливал — першило в горле. Подсел ко мне и тихо сказал:
— Очень может быть, Борис, больше не свидимся. Знай: я здесь потому, что меня… убили.
— Что значит — убили? Оклеветали, ты хочешь сказать?
— Именно — убили! Клевета, друг мой, бывает разная. Но есть такая, что бьет прямо в сердце, намертво!
Мы расцеловались, и Дорофеев ушел.
Простился со мной и Яков Ефремович Котик.
— Меня еще никогда не подводила интуиция, — сказал он, пожимая мне руку. — Мы с вами встретимся в метро![21]
В один из дней заглянула ко мне Череватюк.
— Здравствуйте! — Протянула открытую ладонь.
Мои руки сделались тяжелыми, чужими.
— Что же вы? Здравствуйте!
Я сдавил ее тонкие, длинные пальцы.
Она осторожно присела на табуретку.
— Мы обсудили ваше заявление. Клевета отвергнута… Подробности?.. Пожалуй, не стоит о них!
Нервы мои сдали. Я отвернулся. Даже «спасибо» не мог выговорить.
— Ну вот… — Череватюк развела руками. — Думала, обрадую… Вам дают бром?
И в эту минуту в коридоре не своим голосом закричал дневальный:
— Внима-а-ание-е!
Нина Устиновна быстро встала.
По корпусу разбрелись солдаты в темных халатах: обыск.
Ко мне в палату шагнул высокий надзиратель с ушами-варениками и наклонил голову, чтобы не стукнуться о притолоку. Как-то раз, глядя на него, я в шутку шепнул Тодорскому: «Вот бы отвернуть ему уши, а там творог!» Теперь же эти загнутые ушные раковины произвели на меня совершенно иное, пугающее впечатление: будто в дверях вырос кто-то, готовый ж прыжку.
Надзиратель козырнул:
— Извините, товарищ лейтенант!
Обшарил все углы в палате, тумбочку, отвернул матрац. Под подушкой нашел тетрадку. Раскрыл. Беззвучно рассмеялся.
— Стишки… Не положено!
Сунул ее в карман.
— Сейчас же верните! — приказала Череватюк. — Я читала.
— Слушаюсь, товарищ лейтенант!
Сержант положил тетрадь на тумбочку и ретировался.
— Что за тетрадь? — спросила Нина Устиновна.
— С оказией получил… От писателя Четверикова… Ленинградец.
— Из Ленинграда получили?
— Нет, с пересылки… Его куда-то гнали. Попросил сохранить.
Нина Установка подняла брови.
— Значит, он… тоже?
— Тоже…
— Стихи?..
— Поэма о революции, о Ленине.
Она встряхнула головой. Пышные волосы ее шелохнулись. Тяжело вздохнула.
— Как все это сложно. Сложно и непонятно… Я не могу здесь больше… — проговорила Череватюк и пошла к дверям.
Вскоре Баринов получил отпуск, уехал на два месяца в Ленинград. Нину Устиновну вызвали на совещание в Тайшет. Меня тут же сняли с истории болезни, хотя свищ еще не зажил и на голове оставалась сыпь.
Когда я пришел в канцелярию, Юрка огорченно сказал:
— Дьяков, собирай сидор… Отправляют тебя на ноль сорок третью, на штрафную!
— Так я же больной!.. И почему на штрафную?
— Ты заключенный, а затем уже больной. Крючок говорит… конечно, с чужого голоса, ты понимаешь:
«Пусть там соревнование организует!..» Никогда, брат, не лезь в драку с начальством.
Уложив мешок, я направился к Перепелкиной. Она сделала мне перевязку, отдала коробку с пенициллином.
— В таком состоянии вас не имели права назначать в этап, — угрюмо проговорила она. — Но я… я ничего… я бессильна… До свидания!