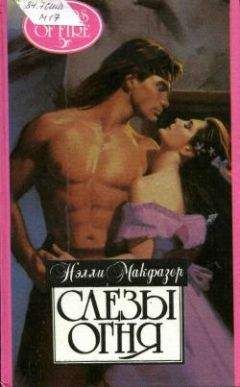Олег Писаржевский - Прянишников
Столь же скромно и деловито, избегая цветистых фраз и пышных славословий, на которые не скупился Вильямс, Прянишников с большой патриотической озабоченностью искал способов тотчас же, немедленно приложить свои знания для борьбы с голодом и последствиями разрухи. Со свойственным ему реализмом и деловитостью он развернул работу, как тогда выражались, «на два фронта». Надо было немедленно помочь разоренному войной крестьянскому хозяйству. И Прянишников становится горячим пропагандистом «простейших приемов использования так называемых «местных», подручных удобрений: торфа, золы, извести, фосфоритной муки, зеленого удобрения.
— Не будем бездействовать в ожидании, — говорил он. — Помните, еще Суворов предупреждал: «Бездействие — смерти подобно». Конечно, мы построим — обязательно построим — заводы для связывания азота воздуха. И суперфосфаты и преципитаты станут общедоступными. А пока не будем забывать того, что каждый куст люпина да и любого другого бобового растения — ведь это не что иное, как крохотный заводик по утилизации атмосферного азота. И работает он за счет даровой энергии — за счет солнышка!.. Не забудем и о том, что каждая печь в доме, каждая топка в овине — это источник калия и кальция. Ну, не крупный, конечно, но постоянно и повсюду действующий!
Он проявлял заботу о правильном хранении навоза, об увеличении его количества путем введения в него торфа, об использовании, где должно, извести. И все это, разумеется, на фоне исполнения элементарных правил азбуки земледелия — своевременной и целесообразной обработки почвы.
Это была вполне научная и глубоко продуманная система мер. С течением времени она нисколько не потеряла своего значения. Передовики сельского хозяйства и сейчас достигают больших успехов, мобилизуя все «внутренние ресурсы» хозяйства.
Наряду с этим Прянишников с воодушевлением размышлял над будущим земледелия страны, сбросившей с себя иго помещичьей и предпринимательской кабалы. Всей душой откликнувшись на ленинский призыв к интеллигенции стать под знамена новой рабоче-крестьянской власти, он впервые ощутил реальность тех мечтаний, которые зрели на протяжении предшествующих лет, — мечтаний о широчайшем практическом приложении всех научных завоеваний, накопленных его школой для могучего подъема российского — ныне советского — земледелия. Эти мечтания не были радужными, воздушными замками.
Свой особый путь в науке о земледелии начинал отстаивать и Вильямс. Он горячо откликнулся на обращение профсоюза работников земледелия и разработал систему оплаты в совхозах. Он предвидел расцвет новых форм труда, нового, сознательного отношения к труду. «При новом строе, — писал он в своем проекте тарифных ставок для всех видов работ, — я не сомневаюсь, очень скоро станет всеобщим сознание необходимости работы не за страх, а за совесть, так как всякий работник во всяком предприятии является одновременно и его хозяином».
По его инициативе была создана в 1918 году станция по изучению кормовых растений, которая за четыре года выросла в Государственный луговой институт. Закончив первую часть «Общего земледелия», Вильямс работал над второй частью — «Естественноисторические основы луговодства, или Луговедение».
По существу, он составлял простую сводку научных данных о мерах, предотвращающих ухудшение лугов. Но по замыслу Вильямса разрабатываемые меры перестройки лугового хозяйства должны были войти составной частью в готовившийся им коренной переворот в сельском хозяйстве в целом. Луговодство и травосеяние скоро стали основными звеньями новой — травопольной — системы земледелия.
Первыми пропагандистами новых основ агрономической науки, провозглашаемых Вильямсом, должны были стать слушатели созданных им курсов луговодства. «Поэтому, — поясняли близко знавшие его люди, — с такой любовью и увлечением преподавал Вильямс на этих курсах». Покоренных его лекциями молодых людей можно понять. Вильямс и прежде был, что называется, «златоуст». Правда, в эти годы слушать его было трудно, так как не полностью восстановилась речь. Но фанатичная увлеченность больного ученого сильно действовала на неискушенные умы. Этому способствовало и личное обаяние широкой артистичной натуры Вильямса.
Сплачивая вокруг себя маленькую семью луговодов, Вильямс видел в мечтах сотни и тысячи новых агрономов, которые по всей стране понесут его слово.
Что же это было за слово?
Оно прозвучало уже в специальном докладе, с которым Вильямс выступил летом 1921 года в Госплане. Несколько длинное название хорошо выражало его содержание. Доклад был озаглавлен так: «О необходимости проведения всех возможных мер к побуждению сельскохозяйственного промысла к переходу от господствующей паровой системы земледелия к травопольной».
В этом докладе впервые отчетливо была проведена мысль, что единственный путь к повышению почвенного плодородия — это воссоздание мелкокомковатой структуры почвы. Эту работу способны выполнить только многолетние травы. Только травопольные севообороты явятся надежным средством повышения производительности почвы.
Биографы Вильямса туманно намекали на то, что «десятки лет ему пришлось безуспешно бороться за торжество передовых научных взглядов», но «только теперь рождалась реальная возможность для их широкого признания». Относя появление этой возможности к первым годам революции, биографы Вильямса явно опережали события. До тех пор пока существовали нормальные условия научной жизни и дискуссия вокруг спорных проблем науки не была еще пресечена в результате извращений, связанных с культом личности, взгляды Вильямса мало кто принимал всерьез. Властителем дум неизменно оставался Д. Н. Прянишников.
На чествовании, посвященном 35-летнему юбилею научной и общественной деятельности Дмитрия Николаевича Прянишникова, один из его учеников, впоследствии с незавидной легкостью переметнувшийся в лагерь его непримиримых противников, пылко возглашал здравицу своему учителю.
— Мы работали у Дмитрия Николаевича, — говорил он 8 марта 1925 года, — еще в то отдаленное время, когда старое музейное здание не имело музейных помещений, когда музей, основное пособие для курса частной культуры, помешался в коридоре, а коридор этот был образован из шкафов, когда хоры старой лаборатории служили для хранения урожаев, а иногда и для ночного убежища заработавшихся студентов. Нас связывает с Дмитрием Николаевичем двадцатилетнее знакомство, нас привязывает к нему двадцатилетняя привязанность. Тем не менее мы не решились бы разгадать многосложную загадку его влияния как учителя. Мы знаем только, что обаяние его велико и многообразно, что при кажущемся спокойствии своем он легко вызывает в учениках своих тот волшебный энтузиазм, который образует половину успеха. Отдавая лаборатории каждую свободную минуту, Дмитрий Николаевич и учеников своих научил не считать часов в лабораторной работе. В создании Прянишникова приняли участие гениальная прозорливость Тимирязева, погруженность Стебута в непосредственные сельскохозяйственные вопросы, неотразимая сила Коссовича. Прянишников оказался тем химиком, на которого он ссылается, цитируя Оствальда, — химиком, умеющим приложить данные современной химии к физиологии и земледелию. Не занимая кафедры физиологии, Прянишников не только принял Тимирязевскую теплицу, но более чем кто-либо заменил Тимирязева. И можно только пожелать, чтобы еще на долгие годы Тимирязевская академия сохранила Прянишникова в числе своих руководителей…