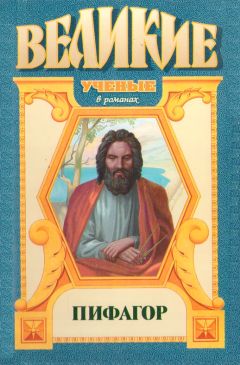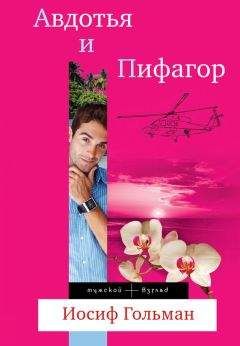Хескет Пирсон - Бернард Шоу
«Я не сомневаюсь, что сам по себе тенор — молодой красавец, но тут у него была внешность раздобревшего херувима; было видно, что он с нетерпением ждет, когда же смерть освободит его от роли Уайльдера. У него приятный и выразительный голос, приветливость и благодушие тоже служат ему добрую службу, но душе его уже ненавистны напевы семьсот раз исполненной партии. В первом акте он попросту выбросил одну песенку. Ария «Хоть я высокого рождения», казалось, стоила ему громадного напряжения сил и воли: на последнем «соль» голос его дрожал, как при землетрясении. И все-таки, думается мне, он не был сильно огорчен, когда почтенные гринвичцы, впервые присутствовавшие на этой бойне, вызвали его «на бис»…
Гораздо легче перенесла бесчисленные повторения комическая партия (в сущности, это было антре циркового клоуна, приспособленное для лирической пьесы). В антрактах между haute ecole[61] — партиями примадонны и тенора — веселый джентльмен, наслаждаясь своей на редкость удачной шуткой, потешал зал, перевирая имя своей партнерши: вместо Присциллы у него выходила Сарсапарилла. Очень может быть, что он еще долго не заскучает, но от такого веселья его несчастных коллег одолевает совсем уже смертная тоска — с убийственной злобой встречают они все его выходки. Бог даст, этот джентльмен умрет своей смертью, но было бы неосторожно с его стороны слишком рассчитывать на это. В какой-то момент скука рождает стремление убивать.
Всех лучше сохранились женщины. Эта половина рода человеческого не нажила себе и капли совести: убивая в себе артистку, они хоть всю жизнь будут вам показывать одну и ту же Доротею, покуда ее еще принимают и регулярно платят жалованье. Наша Доротея — молодая красавица леди с незаурядной внешностью. Она отличается необычайно широким по диапазону произношением — от чистейшего английского языка Тэнбридж-Уэллса[62] (для изящной комедии) до резкого ирландского акцента (для фарса). Пела актриса без всякого напряжения и выражения, рождая тем большую скуку, ибо артистические способности явно притуплялись в самодовольном бездействии.
К концу второго акта в зал ворвалась свора собак. Надо полагать, их вела безумная надежда увидеть что-нибудь новенькое. Трудно удержаться от жалости, вспоминая, как они приуныли, разобравшись, что дают все ту же «Доротею». Куда смотрит Общество защиты животных?! Ну, нет закона, который бы оберегал мужчин и женщин от «Доротеи», — собак-то хоть надо спасти, ведь безвинно страдают.
Третьего акта я не стал ждать — и без того моего товарища несколько раз едва не свалили в партер сон и тяжелая скука. Ну а мне казалось, что я сам в миллионный раз спел Джеффри Уайльдера».
Посещение «Доротеи» показывает, что после девятилетней жизни в Лондоне Шоу в общем-то не особенно дорожил свежим воздухом. Он был дитя цивилизации, и его мало трогала первозданная деревенская дикость, которую превозносил как «простые и здоровые радости» его друг, тоже вегетарианец, Генри Солт.
Солт с женой как-то пригласили Шоу погостить у них пару дней: жили они в Тилфорде, в холмистом Суррее. «Я знал его как умного собеседника и хорошего спутника; конечно, не мешало бы ему вести себя разумно и ограничиться набережной Темзы! — писал Шоу. — В общем я пошел на этот эксперимент и даже согласился, что меня поведут на вершину некоей живописной ерунды, называвшейся Хайндхед. Оттуда мне покажут холмы на южном побережье и Портсмут-роуд, которую я все же люблю на том ее этапе, где она называется уже Найтсбридж[63]. В довершение всего мне укажут место, где однажды казнили сразу троих: эти люди убили человека, соблазнившего их на загородную прогулку…
Поднявшись непривычно рано для воскресенья (в семь), я направился на вокзал Ватерлоо. Лондон был чистый, свежий, ни дождя, ни тумана… Между Фарнемом и Тилфордом располагаются с полдюжины холмов — и ни одного моста. Я взбирался вверх на носках, а вниз спускался на пятках, каждым своим шагом выдавливая маленькое болотце жидкой грязи. Я забирался в места совсем уже дикие, а тут еще припустил дождь. Книга моя набухла, и красный цвет с обложки обагрил мой серый пиджак. Из рощицы в мой адрес раздавался дерзкий смех каких-то непромокаемых птиц, и я очень хорошо понял, почему в птиц обычно стреляют… К этому времени рукава от плеч до манжет превратились в липкий холод. Я печально растопырил руки, стараясь реже испытывать это неприятное прикосновение. Брюки плотно облепили колени, а когда я взглянул на них — с полей шляпы хлынула добрая пинта воды с черной краской…».
Все же он добрался до дома Солтов. Высушили его одежду. Он расчихался, и миссис Солт едва не погубила его камфарным спиртом. Потом его погнали смотреть окрестности: «С подветренной стороны от нас лежал Фарнемский пруд — ни дать ни взять водопроводная станция, с которой растащили все оборудование. Порывы ветра повергали его поверхность в дрожь. Я ему посочувствовал и украдкой взглянул на Солта: не угнетает ли и его встающая со всех сторон безысходная печаль? Нет, он, видно, привык: только мы вернулись домой, он тотчас засел вырабатывать план, как мы пойдем завтра утром на Хайндхед. При одной мысли об этом я опять расчихался…
Утром поднялся в восемь — хотелось посмотреть на солнышко, послушать птиц, но оказалось, что они так рано здесь не встают. И солнце и птиц я увижу опять только дома, в столице. Солт ликовал: дул северо-восточный ветер, и, стало быть, дождь исключался. Кончили с завтраком и по холмам направились к Хайндхеду. Нас обступал туман, в котором коровы казались мамонтами, а гребни холмов — Альпийской грядой. Когда мы уже достаточно удалились от обитаемых мест, хлынул дождь. Солт уверял, что это пустяки, что при северо-восточном ветре дождь долго не продлится. Однако он затянул надолго… Солт пришел в крайне возбужденное состояние. Разве только астроном еще может так обрадоваться новой комете, как Солт — сырой погоде при северо-восточном ветре. А миссис Солт из всего сделала такой вывод: я должен приехать к ним еще раз. Дождь она переносила с безразличием утки. Я не мог отделаться от мысли, что ее прогулочный костюм был на самом деле купальным костюмом очень искусного покроя. Она казалась вполне счастливой, хотя даже овцы — и те поднимали к небу жалобные вопли, а коровы вымокли до такой степени, что, когда я дружески потрепал одну из них, брызнул фонтан, поднявшийся у меня вдоль рукава до самой под мышки… Домой я принес на себе раза в три больше воды, чем накануне. После новой просушки моя одежда очень смахивала на гардероб младшего брата.
Не буду описывать, как после обеда я шел обратно в Фарнем. Всю дорогу лил дождь, но утешало, что я все ближе подхожу к Лондону. Вот как я побывал на воздухе, отдохнул. Недели через две, думаю, вполне оправлюсь».