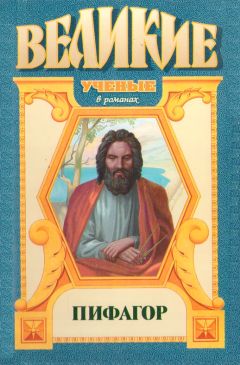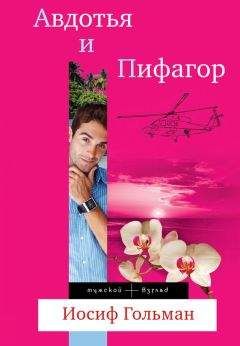Хескет Пирсон - Бернард Шоу
Когда он отдыхал? Очень беспокойные голова и ноги были даны этому человеку. Лишь однажды одному-единственному спутнику Шоу удалюсь «забвением окутать его чувства»[55]. Шоу как-то выехал на день развеяться и в Челси забрел на мореходную выставку. Здесь он повстречал Оскара Уайльда, и несколько восхитительных часов они провели вместе. Оки осмотрели модель «Победы» Нельсона и макет каюты «Р.&О.»[56], который вызвал морскую болезнь просто по ассоциации: «Что меня туда занесло и что потерял там Уайльд — я не знаю. В общем мы там очутились, и нас безумно веселил вопрос, какого дьявола нам нужно в этом камбузе. В первый и последний раз я убедился в замечательном даре Уайльда-рассказчика.
Мне особенно запомнилась одна великолепно слаженная история, пример умножения одного-единственного действия, вроде того рассказа Марка Твена, где человек послушался чужого совета и водружал на крыше громоотвод за громоотводом. Случилась гроза, все молнии ринулись на его дом и спалили его дотла. Рассказ Оскара был построен еще искуснее. Некий молодой человек изобрел театральное кресло, которое за счет всяких хитроумных приспособлений занимало очень мало места. Приятель этого молодца пригласил двадцать миллионеров на обед, чтобы заинтересовать их изобретением. Молодой человек убедительно доказал, что его изобретение позволит театру, вмещавшему ранее шестьсот человек, принять тысячу зрителей. Тут все миллионеры просто загорелись его озолотить. Но, к несчастью, он пустился в подсчет общемировой годовой прибыли от театров и концертных залов, церковных собраний и так далее. Он добрый час корпел над денежными, моральными и религиозными преимуществами своего изобретения и вывел наконец приблизительный итог: несколько миллиардов — и вслед за тем наступление золотого века. Однако к этой торжественной минуте миллионеры бесшумно сложили свои шатры и растаяли, как тень[57]. Уничтоженный изобретатель на всю жизнь заполучил дурную репутацию.
В тот день мы отлично чувствовали себя друг с другом. Я помалкивал и слушал человека, который развлекал меня рассказами куда лучше, чем это мог сделать я… На нем был твидовый костюм и низкая шляпа, как у меня, и мы рассекретили друг друга, ибо он, как и я, украл для себя чудесный денек в Рошервилл-Гарденс и отдыхал от фрака и прочего. Слушатель ему попался благодарный. Так что в тот раз свидание наше прошло успешно, и я понял, почему медленно и тяжело умиравший Моррис всем своим гостям предпочитал одного Уайльда».
Чем отличались друг от друга Шоу и Уайльд, становится ясно из рассказа, который я слышал от Роберта Росса: «Однажды я встретил Шоу в Шартрском соборе. Он попросил провести его по собору и рассказать все, что я знаю о витражах. Бесконечными расспросами он скоро вытянул из меня все мои познания, и через час меня могли бы привести в чувство только турецкая баня или горячительные напитки. А возьмись Оскар толковать об этих витражах — и при этом экспромтом, — через час я запрошу еще и еще».
Шоу испытывал неутолимую жажду знаний. Даже зарубежные поездки не могли его отпугнуть неизбежными трудностями. Так, в сентябре 1891 года он отбыл в Венецию с группой из Союза работников искусства. Организовал это путешествие кембриджский преподаватель Томас Окей — ну и намучился же он с диетой Шоу! Сам вегетарианец, впрочем, не унывал — весело голодал, пока наконец Окей не положил этому своевременный предел, начав переговоры со старшим официантом: у них в группе есть человек, по религиозным убеждениям не принимающий мяса. В звании святого человека Шоу продолжал путешествие с комфортом, всегда имея обед по своему вкусу.
Но его вкус в архитектуре наверняка возмутил бы весь святой чин. Собор в Милане он сравнивал с роскошным свадебным пирогом: «Отвратительно! Такое впечатление, словно строителям дали полную свободу действий — валяйте, городите еще выше… Мне гораздо дороже Сант Амброджо». Наружный вид собора Св. Марка в Венеции он посчитал хорошим образцом для железнодорожных вокзалов. Вообще говоря, венецианцы «своей архитектурой ничуть не растревожили во мне чувств, много лет назад разбуженных часовней Св. Иоанна в лондонском Тауэре… Италия мне почему-то показалась сплошным обманом… В наш приезд стоял восхитительный день, и я бесповоротно убедился, что единственным художником, так глупо прозевавшим свое призвание, был Тернер». Шоу написал Уильяму Моррису длинное письмо, — «ибо я должен как-то развеять растущее раздражение и хотя бы на минуту забыть страшное одиночество, на которое меня обрекли двадцать семь человек — из них двадцать способны восхищаться всем, кроме прекрасного». К счастью, в Венеции досаждали не только соборы и туристы: «Поглядели бы Вы на Уокера и Кокерелла. Их лица и шеи стали москитовым пастбищем — сплошное кровавое месиво. Я спасался курительными свечками, которые разводили такую вонь, что сам я остался жив только чудом. Еще мне удалось освободиться от блох. Я, знаете ли, обильно потею. Мои ключи, например, очень быстро покрываются тусклой ржавчиной. От сырости блохи, конечно, схватывают ревматизм, а это страшная болезнь для насекомого, чей смысл жизни состоит в прыганье. Так и ушли от меня блохи». Не поддержали своей марки и гондольеры. Шоу рассказывали, что гондольеры обычно распевают строфы из Данте, — «но почему-то в мой приезд этот обычай был оставлен, во всяком случае, мне ни строки из Данте услышать не довелось».
В 1894 году он снова приехал в Италию с Союзом работников искусства, в Генуе восторгался театром, приютившемся на третьем этаже небоскреба времен Возрождения, и восхищался дворцовыми лестницами. В Генуе же его насилу убедили не уничтожать мраморную группу довольно известного скульптора: Дженнер[58] делает ребенку прививку.
Наверняка Шоу с детства не показывался в церкви, но в Италии он зачастил в храмы, хотя и не с богомольными побуждениями. Он порицал «многочисленные дневные службы, которые только бесят истинно религиозного человека. Всех этих священников, отправляющих обедню, можно было бы допускать в храм наравне с другими людьми, тогда бы настоящие мистики внесли приличие и смысл в их службу и сделали бы мессу воистину причастием, а не только обрядом или мистерией. Но, боже мой, что такое обычный итальянский священник?! Грязный, весь век киснет в затхлой, непроветриваемой комнатушке, ходит с вечно простуженным горлом и мокрым носом; латинскую скороговорку уснащает отхаркиванием — приличного человека просто в дрожь бросает, когда, ударившись о мраморные ступени алтаря, плевок гулко звучит под сводами. Нет, такого хулигана надо связать и вместе с колокольчиком, требником, свечой и прочим выбросить вон — пусть научится вести себя пристойно. Обижаются на туристов из Англии — мол, дурно себя показывают в итальянских церквах: ходят во время службы, громко переговариваются, чтобы лучше рассмотреть живопись, лезут к самому алтарю, попирая чувства молящихся, а то даже крадут обломки камней и оставляют автографы на статуях. Но поживите неделю в Италии, и вы поймете отношение туриста, в особенности опытного туриста: по-настоящему мешают службе сам священник и его паства. Я частенько бывал свидетелем неуважительного поведения англичан и в храме и вне его. Мне очень знакома фигура несообразительного англичанина, который и не подумает посторониться перед гостией[59], а по поводу служки, дребезжащего перед ней колокольчиком, утруждает свое свободнорожденное британское чело вопросом: «Этому какого еще дьявола надо?» Но на моей памяти никакой иностранец не вел себя так несносно в храме, как сами служители. Дайте как-нибудь ризничему «на чай», и он вам мигом покажет, что совсем не стоит церемониться с коленопреклоненными богомольцами, нашедшими минутное утешение у Пресвятой Девы или какого-нибудь святого после беспросветной работы и голода. Личность священника убедит вас бесповоротно, что пастве не привыкать к непристойности и при всем старании вы ее не потрясете; на вас косятся лишь потому, что вы иностранец, вероотступник — за вами не признают права всякого человеческого существа находиться в церкви. И вот за это право нужно каждый раз уметь постоять. Нет такого закона, чтобы великие католические соборы, воздвигнутые во благо всем великими зодчими, попадали в руки какой-либо секты, а всем прочим здесь, видите ли, делать нечего».