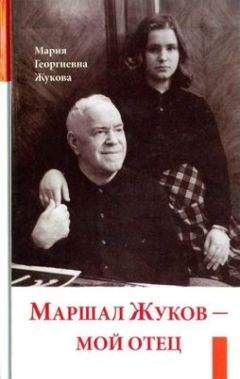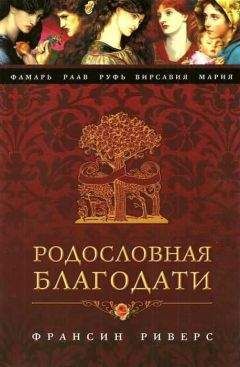Игорь Голомшток - Воспоминания старого пессимиста. О жизни, о людях, о стране
Итак, я оказался перед выбором: Лондон или Иерусалим?
С детства я ощущал себя евреем, хотя семья была достаточно ассимилирована и никакого, кроме государственного, антисемитизма я на себе не испытывал — в школе меня не дразнили, на улице не оскорбляли, на работе не притесняли… Но и государственного юдофобства было достаточно, чтобы бежать куда глаза глядят. В московских спорах я стоял стеной за отъезд в Израиль. Да и Ветхий Завет, несмотря на мой агностицизм, был мне ближе всего.
С другой стороны, в области культуры я был англофилом. Любимыми моими писателями были тогда Стерн, Филдинг, Диккенс, а позже Честертон, Хаксли, Орвелл, Кестлер, Джойс (фрагменты из “Улисса” были опубликованны в журнале “Интернациональная литература” в 30-е годы); на большой выставке искусства Великобритании у нас в музее я впервые увидел в подлинниках картины английских мастеров. Во времена господства соцреализма история зарубежного искусства строилась по французскому образцу. Давид, Делакруа, Энгр, Курбе, революционеры и реалисты, шли во главе художественного прогресса, а о Тернере и Констебле мы из университетских лекций узнавали только, что Делакруа, увидав их картины в Лондоне, переписал свою “Резню на Хиосе” (хотя по сравнению с новациями английских мастеров его знаменитая “Свобода на баррикадах” выглядела политическим плакатом). “Франция после 1789 года, — пишет английский историк искусства Э. Грэм-Диксон, — была революционной нацией с консервативной культурой, Британия после 1789 года была консервативной нацией с революционной культурой”. По официальной советской трактовке выходило как раз наоборот. Из кусочков истории, почерпнутых из книг (из Карлейля, того же Диккенса), складывалась картина страны с ее плавным, без сдвигов и революций на протяжении трехсот лет, развитием, где личное ставилось над общественным, права человека над государственными интересами, что выражалось в загадочным, непереводимом дословно на другие языки, словечком privасy. Все это было непохоже на то, чем нас пичкали в школе и в университете.
Итак, Англия или Израиль?
Мне было сорок три года. К физическому труду и ратным подвигам я был неспособен, а это, как мне казалось тогда, в первую очередь и требовалось Израилю. А что делать искусствоведу-западнику, не видевшему ни одного западного музея? Только что висеть на шее у государства, чего мне не хотелось. К тому же с моим лингвистическим кретинизмом овладеть ивритом было бы проблематично.
К Англии меня склоняли не только культурные интересы. Я считал своим долгом отчитаться за полученные деньги, источника которых я тогда не знал, и отблагодарить людей, помогающих нам эмигрировать. В конце концов все это вместе определило решение. Трехлетний Венька в московском метро перед остановками объявлял: “Следующая станция — английская!”. Но до Англии пока было очень далеко. Мне еще предстояло поучаствовать в скачках с препятствиями, чтобы добиться права на эмиграцию.
* * *
Чтобы оформить документы на выезд, надо было пройти через ряд процедур, перепрыгнуть через ряд барьеров, которые власти ставили на пути эмиграции. Для меня таким барьером, перескочить который я так и не смог, была необходимость иметь согласие родителей на отъезд. Мама уже умерла, отец, которому перевалило за восемьдесят лет, проживал в Свердловске. Пришлось лететь к отцу, которого последний раз я видел в 1943 году.
Отец жил на окраине города с женой — простой милой женщиной. К моей идее эмигрировать он отнесся как к неправдоподобной фантастике, как будто я собирался улететь на Марс. “Зачем ты уезжаешь? — снова и снова спрашивал он. — Наша страна сейчас выпускает в год столько-то тонн стали, строит столько-то самолетов…” — “Папа, а ты летал когда-нибудь на самолете?” — “Нет, не летал”. Так что ему было до…!? Он все еще жил советскими представлениями 30-х годов. Тем не менее бумагу со своим согласием он подписал. Этого было недостаточно: надо было еще заверить его подпись в домоуправлении или у нотариуса. Домуправ, прочитав мне мораль на тему, как безнравственно покидать престарелых родителей, заверить его подпись отказался. По сугробам и колдобинам свердловских окраин отец ковылял за мной от нотариуса к нотариусу, но слуги закона, прочитав в бумаге слово “Израиль”, наотрез отказывались от заверения подписи. Добрались до самого горкома партии, но и там кроме ругани и нравоучений ничего не добились. В Москву я возвращался ни с чем.
В московском ОВИРе я долго объяснял его начальнику тов. Золотухину ситуацию в Свердловске, но в ответ слышал одно: без подписи нотариуса и печати документ недействителен. Тем не менее на окончательное и положительное решение о нашей эмиграции такая недействительность не повлияла. Мне казалось, что тогда в Союзе одновременно действовали две силы: центробежная и центростремительная. Одна выталкивала нас наружу, другая втягивала внутрь. Одна находилась в ведении конторы Андропова и стремилась очистить страну от диссидентов, другая проходила по ведомству ЦК КПСС, и всякие эмиграции были ей глубоко противны. Взаимосогласия между ними не было. Когда эти силы вступали в равновесие, мы оказывались в неопределенном состоянии, когда одна перевешивала другую, мы либо выкидывались наверх, либо опускались вниз — в тягостное ожидание нового соотношения этих сил.
Однажды вызвали меня в Московское отделение Союза советских художников под предлогом уточнения каких-то анкетных данных. Секретарша достала папочку, полистала какие-то бумажки и вдруг спросила: “А уезжать вы не собираетесь?” “Собираюсь”, — ответил я. “Ну, тогда напишите заявление, заполните анкету…”, — сказала она с явным облегчением. Очевидно, тут срабатывали центробежные силы, Золотухин из ОВИРа был частью сил центростремительных.
Интересно: то, что носилось в воздухе, что мы ощущали на собственной шкуре, уже тогда понимали наиболее проницательные западные писатели и политологи. Так, еще задолго до перестройки, Грэм Грин писал: “Любимая моя теория заключалась в том, что в один прекрасный день контроль над страной перейдет к КГБ… КГБ набирает самых блестящих студентов из университетов, владеющих иностранными языками, знающими мир, для которых Маркс не является авторитетом”[4]. То же говорил мне Щедровицкий: самые способные студенты с его курса философского факультета МГУ шли в КГБ. Через пятнадцать лет предсказание Г. Грина осуществилось.
* * *
В октябре пришли деньги из Лондона — пять тысяч долларов. Вместо долларов государство выдавало тогда получаемые суммы в неких валютных рублях, причем шестьдесят процентов оставляло себе. Эти странные рубли высоко ценились на черном рынке, ибо на них можно было покупать недоступные товары и продукты в расплодившихся тогда валютных магазинах — “Березках”. За такой валютный рубль давали шесть или семь рублей обыкновенных; нам удалось за несколько дней распродать их среди знакомых по три рубля за штуку. Не помню, какой получилась эта сумма, но ее хватило с избытком на погашение недостающей доли выкупа (примерно в 20 тысяч рублей). Огромную кучу бумажек мы запихали в портфель, и я в сопровождении друзей Димы Сильвестрова и Миши Штиглица (каждый под два метра ростом) отправился сдавать их в московский банк.