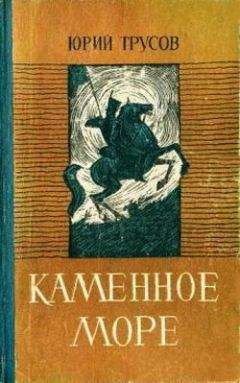Михаил Ардов - Матушка Надежда и прочие невыдуманные рассказы
Ликуй, пустынная обитель,
Радость Бог тебе явил -
Наш Владыка и Святитель
Тебя сегодня посетил.
Владыка, Ты в годину страха
Для всей мятущейся земли
Носись душой превыше праха
И ликом ангельским внемли.
С Крестом в руках, как светлый гений,
Любовью к ближнему согрет,
Ты в мир страстей и прегрешений
Христовой веры вносишь свет.
Прими же, Пастырь вдохновенный,
Простой наш искренний привет,
И стих простой, самосложенный
Пустынный хор Тебе поет.
А он стоит, и слезы у него так и капают... Ладно-хорошо... А на Воздвиженье приехали ко мне родные первый раз. Сестра да тетка. Привезли мне кое-что из одеянья да из обувки. Так и живу я у матушки Августы. Я у нее три года жила. Она меня любила. Если расстроится, не ругается - только скажет, бывало: "Ты, дорогая моя, ангел мой, как казанок, в самом деле". Лет ей было семьдесят с лишком. Она была у нас самая первоначальная монахиня, прямо в лес пришла. Первая Игуменья была Августина, по-мирскому Анна. Она была за священником замужем, полгода жила, он и умер. И был тогда старец Варнава, он ей благословил пешком сходить в Иерусалим, два года она ходила, потом опять к нему пришла. Он ее благословил: "Иди в это место и не оглядывайся". А тут всего-то была одна келейка да часовня... И пришло с нею шесть человек - матушка Августа моя, шестнадцати лет, матушка Таисия, регент наш, - зиму и лето босиком ходила и в бане не бывала - так жила. И еще четверо. Стали к ним приходить и другие сестры, стало двенадцать человек. Тут они домик выстроили, тесно в келье стало. Стали жить. И вот кто-то этот домик поджег. Среди ночи. Все у них сгорело. И они снова стали строить. И умерла матушка Игуменья Августа ста трех годов. Монастырь уж большой стал - землю им барин Лытиков пожертвовал. Два священника у нас было да диакон. Потом уж один стал: иеромонах отец Антонин помер потом, один остался - отец Петр. Его потом выслали и там, в ссылке, заморозили на Медвежьей горе. Его и отца Димитрия Воскресенского. В прорубь их опускали. Опустят, поморозят - лед схватится на них, потом опять опускают... Это уже в тридцать седьмом году, в резоляцию, когда нас всех поголовно забирали. А лес вокруг был дремучий. До самого Архангельска полоса, и уже двенадцати верст ни в каком месте эта полоса не была. Медведей много было. Я, помню, коров пасла в скиту от Егория до Покрова. Коровы пройдут, телята сзади - а в середке-то медведи ходят. Сорок лет монастырь существовал, и ни одной не повалили они у нас. А как нас разогнали, да "скуйскую" артель сделали, так начали валять коров - я те дам... Семнадцать штук повалили медведи. Два пастуха пошли, да и с ружьями. А у нас, мы пасли - только дудка... А сестры на меня поначалу роптали. Зачем меня, такую, только пришла из миру - а уж в рясу одели и на клирос хотят поставить? А там все на работу идут - поют, а я к ним и приставала. А у меня пение было не хуже ихнего, я уж ноты знала... "Вот, - говорят, - хотят на клирос поставить, а надо бы на скотном года три. Кажная живет на скотном. Пришла какая-то из миру, соплятая девка деревенская..." Которая чего скажет. Ведь им обидно. И я сознаю, что обидно. А работы у нас очень много было. Не было времени, чтобы не работать. Осенью да зимой - лес. Один собор отопить в день - воз дров. Да три корпуса, их надо отопить. Да государству - лесозаготовка. Летом - сенокос, поля. Сено возить надо. Скотный двор - сорок дойных коров в монастыре, восемнадцать дойных в скиту. Каждый год гектар вырубим леса, выкорчуем пенья, каждый год. Большое хозяйство. Десять лошадей езжалых да две обучать... А я на лошади наездник, не хуже цыгана буду. Я до чего любила лошадей. Был у меня жеребенок Соколик, вороной битюг. Он никому не дастся, только я да мать Клавдия - конюх. А так никому не дастся. Большой шаг у него был, широкий. А в хлев к нему никто, кроме меня и матушки Клавдии, зайти не мог. Я помню, уж и монастырь разогнали, я на приходе служила и шла к ним на всенощную под Севастианов день. Там еще семнадцать старух жило, и в трапезной служба была. Отец Сергей, диакон наш, служил, его уж в священники посвятили. И вот иду, а эти артельные муку с мельницы везут. Я как увидела: "Соколик!" Он и остановился. Он стоит, и я стою... Они его и стронуть не могут. Ну, пошел кое-как. А потом мне сказали, что пристрелили его, не давался он им Ох, я и ревела... Нет, без дела мы в монастыре не сидели. Летом в воскресенье после обедни - в лес по ягоды. Я больше всех наберу, я сроду лесовая бабушка... По вечерам четки мы делали - матушка Игуменья, я, Вера, Ефросинья. Девять бусинок, десятая пронизка. У меня четки красные были, голубые, хорошие. А когда Владыка обряжал, дал шелковые, черные, большие, я тоже их берегла. И вот на Николу на зимнего меня на клирос поставили. А Тятя с Мамой потом ко мне в монастырь ездили. Не один раз ездили. А последний раз Тятя Постом приезжал. Он уже был "оверхушенный" - это значит, на раскулачивание его... И всю-то зиму он лес возил на своей лошади с заготовок. Всю зиму у них отработал. И привез мне такой вот лоскуток ситцу на платок да соли двадцать фунтов. "Вот, - говорит, - Санька, за всю зиму у них заработал и все тебе привез. Соли только маленько дома отсыпал. А это все тебе привез". А я дура была, на соль эту четки янтарные выменяла у матушки Анны Панкратьевой. УЖ больно мне хотелось янтарные. У всех белые - а у меня янтарные... А Тятя говорит: "Ну, бери, Санька. Может, соли еще, даст Бог, достанем". Я год на клиросе простояла, уж через год стала трио петь. Голос у меня был ужасный - дискант. Бывало "разбойника" запою, так у меня лампадочки и заговорят. А потом стали меня учить на регента. Сама матушка Игуменья Леонида, она с трех лет в монастыре, хороший регент была. Было ей лет под семьдесят. А сама все делала. Вот уж и дрова для своей кельи заготовляла. Ольховые... В соборе-то у нас осиновыми топили - в день вод дров для собора. А она ольховые любила. Пойдет сама в лес... Пила у нее маленькая с одной ручкой. Ножовка. Повалит деревья, испилит все и сложит - только вывози. Наготовит на свою келью в зиму десять возов. Как-то идет из лесу с пилою, а я ей навстречу. "Благословите, матушка... Поди, дерева три повалили?" Смеюсь. А она: "Что уж, как говорится... Я двадцать три свалю!" Бывало, позовет меня к себе вечером. Сидим с ней. Поем. Она ой петь любила. А голос какой у нее был... В монастыре она была с трех годов. Сирота она была, ее и отдали. Только уж конечно не в наш. В Покровский какой-то монастырь, уж не знаю, где он и был... Чаю она не пила, только кофий. Была у нее кружка фарфоровая, аккурат на три стакана. Выпьет ее, скажет "Вот я кадушечку-то эту опорожнила, как говорится". Это у нее как пословица была - "как говорится". Она меня любила: "Шурка маленькая все сделает". Я в монастыре все "Шурка была маленькая". Мне не любо было, как меня Александрой Николаевной стали звать, я все думала, что я Шурка маленькая... Раз корчуем мы пни да поем "Дубинушку", а матушка Игуменья мимо идет. Как услыхала, кричит "Шурка!" Я молчу, притаилась. Опять: "Шурка! Ах, ты скачок этакой! Вот погоди, в праздник на поклоны станешь"... У меня все сходи ло. Раз зимой ельник рубили, уж темно, а мы все работаем. Матушка Эсфирь - она тоже была трудолюбивая - все работает и работает. А уж темно. Я еще в лаптях была, валенки мне не привезли. А я как запою: