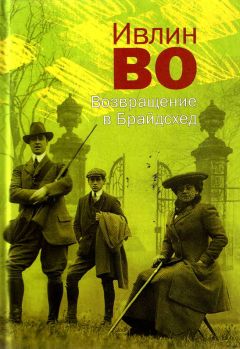Ивлин Во - Насмешник
Своих детей я наставлял на Вознесение обращать особое внимание на всех одиноких маленьких мальчиков.
Бездельничали лишь по воскресеньям. Игры, которые назывались Клюшки, и военная подготовка проводились каждый день, во второй половине. Военную подготовку я не любил и мало о каких играх, связанных с нею, вспоминаю с удовольствием. Они вызывали отчаянное соперничество, нешуточные страсти и споры с победителями; скуку и чувство неловкости у тех, кто не умел играть.
Исключением был крикет. Умевшие в него играть, казалось, получают наслаждение. У них были масса болельщиков и большой авторитет, но и неумех не освистывали. За хорошими игроками признавали особый и достойный зависти талант, но было не позорно и играть нескончаемые и скучные часы до ужина в третьей, так сказать, лиге. Несостоятельность в других видах спорта презиралась. В Лэнсинге таких неудачников называли слабаками. Я не был последним слабаком. По футболу, боксу, плаванию и бегу на полмили я в конце концов вошел в команду моего «дома». Но в первый год не сумел обратить на себя внимание. Я никогда не любил соревнований и, если была возможность отказаться от участия в них, не навлекая на себя позора, не упускал такую возможность.
В день матча все, кто не входил в команду, должны были наблюдать за игрой и аплодировать, летом — лежа на на ковриках на берегу, зимой — стоя за боковой линией и громко подбадривая своих. Таков был общий обычай в то время. Ныне в большинстве школ, говорят, демонстрируют больше изобретательности. Ближе к концу моего пребывания в Лэнсинге я имел какую-то возможность отдохнуть и развлечься, но в первые два года единственной формой отдыха было участие в Клюшках.
Помню, как в начале учебы я в первый раз смотрел игру (из необходимости, с Фулфордом-младшим). Бэтсмен команды гостей послал мяч точно в нашу сторону. Игрок, мальчишка старше нас, видя, что не может его догнать, перешел на трусцу. Мяч стукнулся о землю, покатился к берегу и замер на нашем коврике. Более находчивые мальчишки на нашем месте получили бы удовольствие кинуть его обратно в поле. Мы же с Фулфордом сидели, пялясь на священный алый мячик, боясь его коснуться. Потному и взбешенному типу пришлось бежать к нам, стуча подкованными башмаками оленьей кожи, и самому выбивать мяч, лежавший у пакета с вишней. «Ну, мелочь пузатая, — рявкнул он, — еще заплатите мне за это!» Весь остаток дня и вечер мы в страхе ждали мести. Но все обошлось.
Лучшим временем в первый мой год были часы, проведенные в библиотеке, в церкви и в школе.
Библиотека была тихим местом с богатым собранием книг. Для нас она была открыта в течение часа по вечерам в короткие дни и по воскресеньям. Можно было брать книги с собой или же читать в библиотеке. Большую часть свободного времени я проводил в там, листая том «Библия в искусстве» с репродукциями картин всех периодов на библейские сюжеты. Так я научился кое-как улавливать особенности разных школ и направлений в живописи. Тогда, да и сейчас, я отдавал предпочтение кватроченто и прерафаэлитам с отклонением, с тех пор скорректированным, в сторону Бугеро и Пюви де Шаванна. Рубенс и Рембрандт казались мне отвратительными.
В школе я сначала был у Дика Хэрриса, который читал нам и заставлял заучивать стихи поэтов, более современных, нежели те, с творчеством которых познакомил меня отец: Флекера, Руперта Брука, Ральфа Ходсона, всех молодых протеже Эдди Марша. Но, увы, меня определили в слишком низкий класс. Я без труда оказывался первым по итогам недели, и в середине четверти меня перевели в следующий класс, где вновь я постоянно был лучшим, но уровень остальных был низким. Думаю, мою работу на отборочных экзаменах лишь бегло просмотрели. В конце той же четверти меня перевели сразу через две ступени, из начальной школы в среднюю, так что я вернулся к тому, на чем закончил учебу в Хит-Маунте.
Каждый день мы утром и вечером ходили в церковь, а по воскресеньям — трижды. Я слышал, как товарищи жаловались, что это слишком. Мне никогда так не казалось, даже когда я стал признанным агностиком. Слова англиканской службы и «Официального варианта»[113] Писания неизменно действовали на меня завораживающе. Службы в англиканской церкви, несмотря на всю ее репутацию ортодоксальной, не грешили официальностью, а ее доктрина не была затронута римско-католическим влиянием, ощутимым в то время в мире Роналда Нокса. Духовенство вместо пышного облачения обходилось стихарями. На алтарю стояло две свечи; никаких излишеств мистера Бэзила Баурчера. Все совершалось в духе трактарианизма.
Утром и вечером церковь спасала от одиночества, контакт устанавливался скорее с домом и Мидсомер-Нортоном, нежели с Небом. На воскресной вечерне зачитывались имена выпускников школы, павших в боях на прошедшей неделе. Редко какое воскресенье обходилось без этого чтения мартиролога. В церковь мы проходили по коридору, где на стенах висели постоянно умножавшиеся фотографии павших. Я не знал никого из них, но все мы ощущали их присутствие. И нередко в проповеди звучало напоминание о той жертве, что приносится во имя нашего блага. Напоминание не с целью заставить нас почувствовать угрызения совести. Говорят, что подобная проповедь ныне вызывает насмешку. В 1917 году было иначе.
Музыка в церкви была, на мой взгляд, очень хороша. Будь я иного склада, она служила бы мне дополнительным утешением. Наш органист, Брент-Смит, пользовался известностью и за пределами школы. На воскресной вечерней службе дискант пел соло, потом для тех, кто хотел остаться, играл орган. Послушать их приходили жители городка, но я предпочитал пойти в зал, где на вечерних уроках нам разрешали читать книги — рекомендованную администрацией школы «художественную литературу», сия милость распространялась на все произведения, написанные более пятидесяти лет назад.
Четверть тянулась медленно. «Памятные» дни того или иного святого были днями «Veniam»[114], когда, дважды за четверть, разрешали покинуть школу с родителями или друзьями. Я никого не знал в округе и едва ли мог рассчитывать, что кто-нибудь приедет ко мне из Лондона на целый день, поэтому оставался в «доме», как в любой выходной. В конце концов, когда конец четверти был уже близок и в дортуарах появились плавки, мне страшно не повезло, симптомы свинки были слишком явными, чтобы можно было их скрыть. Первые две недели первых моих каникул я пробыл в изоляторе при школе — вместе с Фулфордом-младшим.
Женщина, под надзором которой мы находились, сестра Бэбкок, ничего не делала, чтобы облегчить нашу скорбь. У нее был скверный характер, и особенно ее злило, что из-за нас ее собственный отпуск будет короче. (У нее были порядочные усы. Русского мальчишку высекли за то, что он презентовал ей бритву; его отец передал в дар церкви икону — единственное инородное украшение ее сурового великолепия.) Через несколько дней нам разрешили вставать с постели, но мы по-прежнему оставались в карантине. Мне прислали из дому вареного цыпленка, но его украл и сожрал кот сестры Бэбкок. С неуклюжей любезностью она извинилась перед нами и наорала на санитарку, которая оставила открытой дверь кладовки: «Не бей моего кота; бей себя».