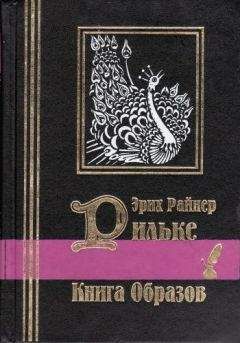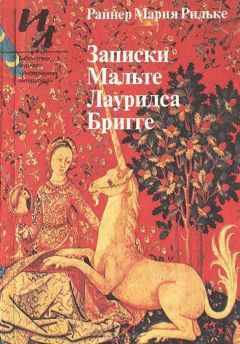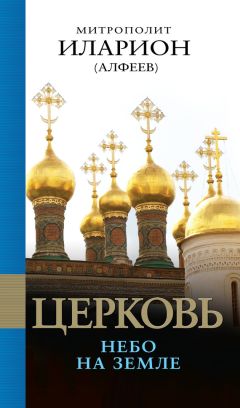Райнер Рильке - Письма 1926 года
Передай Маяковскому, что у меня есть и новые обложки, которых он просто не знает.
Между нами — такой выпад Маяковского огорчает меня больше, чем чешская стипендия: не за себя, за него.
«Но все это — временное», а —
«Время—горе небольшое:
Я живу с твоей душою»... [283]
Скоро напишу, Борюшка, это письмо не в счет.
М.
<На полях:> Шмидт получен, скоро получишь о тебе и мое. И еще элегию (мне) Рильке. Люблю тебя.
Б. Л. ПАСТЕРНАК — ЦВЕТАЕВОЙ
<Москва> 1.VII.<19>26
Ты напрасно будешь искать ответа на последние три письма. А между тем от одного предположенья, что в каком-то смысле рука, протянутая к тебе, будет пуста, мне больно, некстати больно, т. е. вредоносно больно одною лишней болью сверх общей усталости и упадка. Распространяться не хочу, писать не перепишешь. Больше чем когда-либо мне сейчас приходится заботиться о покое и нравственном равновесии, эгоистически и на границе смешного, как старой деве. Я остался один в городе, по многим причинам, из которых главная в твоем обладаньи, и с единственной целью — поработать с пользой, т. е. с усиленной и ускоренной выработкой, чтобы быть на будущий год сильнее средствами и досугом. Я сейчас очень бегло назову одну вещь, вероятно известную тебе другой стороной, чем мне, может быть и вовсе даже непонятную. Может быть это меня покажет с новой и дурной стороны. Но не стыжусь сознаться. Я боюсь лета в городе, потому что это чистая сводка наисущественнейших существенностей живого, бытийствующего человека, причем каждая из существенностей этих дана наизнанку и извращена, начиная от солнца и кончая чем тебе заблагорассудится. Одиночество дано в таком виде, в каком одиноко сумасшествие или одиноки муки ада. Тема жизни или одна из ее тем подчеркнута зверски и фанатически, с продырявленьем нервной системы. Пыль, песок, духота, африканская жара.
Если бы я стал говорить дальше, я бы тебя насмешил: тут пошли бы... искушенья св. Антония. Но ты не смейся. Есть страшные истины, которые узнаешь в этом абсурдном кипении воздерживающейся крови. Ты прости, что я об этом говорю. На всех этих истинах, открывающихся только в таком потрясеньи, держится, как на стонущих дугах, все последствующее благородство духа, разумеется до конца идиотское, ангельски трагическое.
Это самая громкая нота во вселенной. В этот звук, несущийся сквозь мировое пространство, я верю больше, чем в музыку сфер. Я его слышу. Я не в силах повторить его или даже вообразить себе в его вихревой, суммарно-сонмовой простоте, моя же словесная лепта в этом стержневом стоне, — вот она. Я жалуюсь всеми сердечными мышцами, я жалуюсь так полно, что если бы, купаясь, я бы когда-нибудь утонул, ко дну пошла бы трехпудовая жалоба о двух вытянутых руках, — я жалуюсь на то, что никогда не мог бы любить ни жены, ни тебя, ни, значит, и себя, и жизни, если бы вы были единственными женщинами мира, т. е. если бы не было вашей сестры миллионов; я жалуюсь на то, что Адама в Бытии не чувствую и не понимаю; что я не знаю, как у него было устроено сердце, как он чувствовал и за что жалел. Потому что только за то я и люблю, когда люблю, что правым плечом осязая холод правого бока мирозданья, левым — левого, и значит, застилая всё, во что глядеть мне и куда итти, она в то же время кружит и роется роем неисчислимой моли, бьющейся летом в городе на границе дозволенного обнаженья.
Но я напрасно выбалтываю это тебе, дорогая подруга. Горько может быть уже и то, что механизм чувства я знаю по той боли, какую он мне иногда причиняет изнутри. Зачем еще открывать его тебе. Бог тебя знает, как ты еще на него взглянешь. И потом никогда ничем хорошим не может пахнуть машина. Как я рад, что пишу тебе. Мне становится чище и спокойнее с тобою. — Мы думаем одинаково в главном. Полушутливых опасений «влюбиться» ты не поняла. Тут то же самое. Та же двойственность, без которой нет жизни, то же горе подкатывающих к сердцу и к горлу качеств — родных, именных, тех же, что во мне законном, но излившихся за мои контуры, весь век барабанящих по периферии.
Из них построен мир. Я люблю его. Мне бы хотелось его проглотить. Бывает у меня учащается сердцебиенье от подобного желанья и настолько, что на другой день сердце начинает слабо работать.
Мне бы хотелось проглотить этот родной, исполинский кусок, который я давно обнял и оплакал и который теперь купается кругом меня, путешествует, стреляется, ведет войны, плывет в облаках над головой, раскатывается разливом лягушачьих концертов подмосковными ночами и дан мне в вечную зависть, ревность и обрамленье. (Знакомо? Знакомо?) Это опять нота единства, которой множество дано в озвучанье, для рожденья звука, на разжатых пястях октав. Это опять — парадокс глубины.
Боже, до чего я люблю все, чем не был и не буду, и как мне грустно, что я это я. До чего мне упущенная, нулем или не мной вылетевшая возможность кажется шелком против меня! Черным, загадочным, счастливым, отливающим обожаньем. Таким, для которого устроена ночь. Физически бессмертным. И смерти я страшусь только оттого, что умру я, не успев побывать всеми другими. Только иногда за письмами к тебе, и за твоими, я избавляюсь от ее дребезжащей, поторапливающей угрозы. Дай я обниму тебя сейчас крепко, крепко и расцелую, всем накопившимся за рассужденьями. Но нежность была во всех этих мыслях. Ты ее слышала?
О неисключающих друг друга исключительностях, об абсолютах, о моментальности живой правды.
Слава Богу что так. Нам легко будет — общий язык одной черты. Ты знаешь о чем я? О письме про Рильке, про Гёте, Гёльдерлина, Гейне. Про «больше всех на свете». Главное же о моментальности правды.
На этом у меня бывали расхожденья с людьми. Про себя я давно имел обыкновенье говорить, что я могу быть дорог, близок, легок и постоянен тому, кто знает, что мгновенье соперничает только с вечностью, но больше всех часов и времен. Надо заводить что-то не свое, общечужое, чтобы в продолженьи часов сидеть с человеком, хорошо себя чувствующим в часах. Это как партия пернатого с пресноводным.
А как это ужасно в любви!
<Москва> 2.VII.<19>26
Я нарочно не перечитываю. Прямо с последней строки я пошел к Эренбургу, собиравшемуся на вокзал. Попал на какое-то подобье прощального обеда. Были Майя [284], Сорокин [285] и еще какой-то человек, которого я не знаю. Много пили, мне незаметно подливали.
На вокзал от него было рукой подать, он уезжал в Киев, с Брянского, а квартира его первой жены, где он остановился, — над самым Дорогомиловским мостом. Шли берегом, в этих местах сохранившим хаотичность 18—19-го. Дело было под сумерки, с обоих берегов купались. Панорама здесь, если помнишь, широкая. Вся она была заслонена от солнца не то пылью, не то подобьем какой-то сухой, остолбеневшей и тихой пасмурности, той серой воздушной прострацией, которая бывает в городе вечерами.