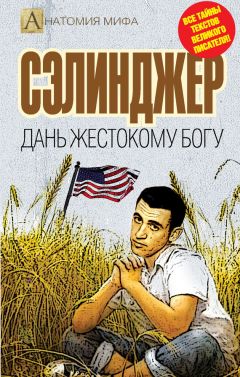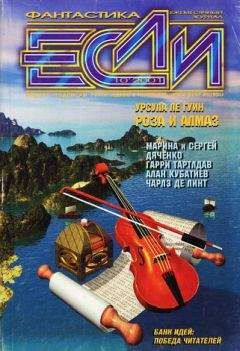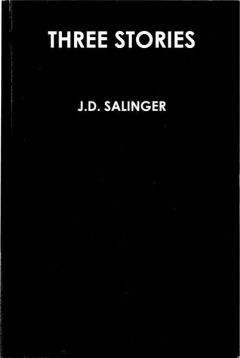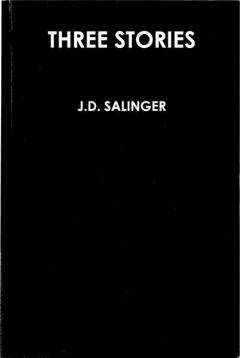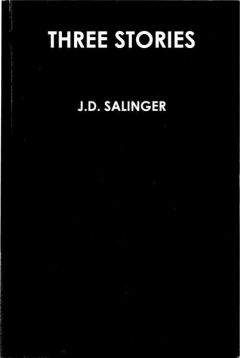Маргерит Юрсенар - Блаженной памяти
Молодой человек краснеет от стыда за тех бельгийцев, что когда-то осуждали жестокость пруссаков, а теперь готовы, если не содействовать их победе, то уж во всяком случае оправдывать победителей. Ранняя смерть скончавшегося зимой Грозного года Банселя, силы которого истощила «жизнь оппозиционера и борца», отняла у Ремо одного из немногих людей, на которых он мог опереться. А в мае 1871 года расстрелян Гюстав Флуранс10, молодой, но уже знаменитый биолог, которого в двадцать семь лет лишили кафедры во Французском Коллеже за атеизм и оскорбление императорской власти. С Гюставом совершил когда-то Ремо поездку из Бухареста в Константинополь, откуда пламенный молодой француз отправился на Крит, чтобы бороться на стороне местных повстанцев. Не без зависти думает Октав о том, какие пылкие разговоры вели между собой два товарища по путешествию. Назначенный начальником оборонительных сооружений, Гюстав был расстрелян версальцами на пороге трактира в Шату, когда он пытался прикрыть отступление федератов. Ремо тем более страдал от этой гибели, что не знал, реабилитируют ли когда-нибудь человека, с которым они на какой-то короткий миг загорелись общей надеждой. Никто из членов семьи Ремо не понимает этих пагубных подрывных идей и не желает даже слышать о них. «Связь между родными и тобой, — печально шепчет Октав, — была разорвана. Они считали тебя бунтарем, хотя тобой владело благородное негодование, считали, что ты беспощаден, хотя ты просто отказывался свернуть с узкой тропинки справедливости». Да и сам Ремо, опережая запоздалые мысли брата, замечал: «Словно тучи мух, слетающихся к телу раненого, сыплются на меня злые слова». Он, однако, не сдается, решает основать журнал, который сменит провалившийся еженедельник, пишет для провинциальных газет некрологи, посвященные умершим друзьям. Сдержанный свидетель этой одинокой борьбы, приводящей на память борьбу, которую в ту же пору ибсеновский Пер Гюнт вел с Великой Кривой, Октав про себя резюмирует состояние, к какому пришел его младший брат: «Лучше смерть, чем крах предпринятых усилий».
Впрочем, в последний год своей жизни Ремо занимался и тем, что не вызывало такого осуждения, — философией, естественными науками, которые он начал изучать еще в Иене. Но и в этих занятиях таилась опасность. Интересуясь жизнью растений, Ремо обращался к скандальному дарвинизму; читатель Гегеля и Шопенгауэра уже не походил на подростка, который молился в акозской часовне и благочестиво причащался в Сен-Жермен-л'Осерруа. Октав и госпожа Ирене, люди начитанные, сразу почуяли, что к ним прокралась беспокойная тень Отступника, склонившегося над своими книгами. Утрата веры — это не только духовная катастрофа, это социальное преступление, извращенный бунт против традиций, впитанных с колыбели. «Тем, кто окружал это существо, снедаемое самой благородной страстью, не следовало навязывать ему свою мудрость. Своими советами и упреками они доводили до отчаяния эту нервную натуру, а ее следовало успокоить; они понапрасну раздражали эту страждущую душу, указывая ей на ее заблуждения; Ремо сильнее чувствовал свое несчастье, потому что они демонстрировали ему незыблемость своих cyждeний». «Если я могу себя в чем-то упрекнуть, — довольно невнятно продолжает Октав, как всегда обвиняющий и тут же оправдывающий себя, — так это в том, что пытался оспорить его доводы; а мне надо было искать путь к его сердцу, чтобы его ободрить. Он надеялся, что в своей социальной борьбе сможет опереться на меня... Его охватило глубокое горе, когда он заметил, что я покидаю его из страха перед его новыми теориями, поскольку по своему характеру я не способен к смелым поступкам, исход которых для меня неясен».
До конца отдавая дань конформизму, старший брат уверяет себя, что в душе Ремо непременно произошел бы переворот, если бы он «встретил благочестивую особу, которую можно было бы уважать и в то же время нежно любить». Такие чувства сам Октав, смиренно сознающий собственные слабости, уже не надеялся внушить своему пылкому брату. Их мать также наверняка ему их не внушала. Не будучи в должной мере философом или не смея им быть, Октав не понимает, как глубоко пустила корни в душе Ремо драма идей, он видит только некий внутренний разлад, который могут уврачевать более нежные семейные заботы. Материалистические теории и радикальные утопии молодого человека остаются для благомыслящей матери и осторожного старшего брата симптомами болезни, которую они не сумели излечить. Сколько раз в течение прошедших с тех пор лет Октав и госпожа Ирене перебирали в памяти одни и те же эпизоды, спрашивая себя, что надлежало сделать, чтобы спасти Ремо, вернув его на путь истинный, Правда, время от времени «лучезарная душа» приоткрывала перед Октавом источник ослепительного света, струящегося с другого горизонта. «Он увидел новое звено в цепи, которая связывает в бесконечном единстве все живые существа. («Quis est Deus? Mens Universi», — повторял за шестьсот лет до этого горевший в пламени костра Давид Динантский). И старший брат, предчувствуя самое худшее, выслушивал признания, в которых иногда проявлялось ясновидение младшего: «Когда я перестаю ощущать свое «я», иными словами, когда я перестаю существовать, я испытываю истинное удовлетворение. Но эти мгновения радости похожи на вспышки молнии; в их свете только еще заметнее мрак моего повседневного существования». Этот безличный мистицизм остается непонятным для Октава, которого поддерживает или, вернее, убаюкивает его католицизм романтического толка. Это в свою очередь раздражает Ремо, живущего уже в других мирах: «Ты воображаешь, будто воспаряешь в небо на крыльях красоты, а на деле ты, скорее всего, погружен в тлетворные пары своего идеализма». Братья по-прежнему переписываются, но за время двух коротких пребываний Ремо в уединенном домике, который он построил себе в фамильном поместье, он не подает о себе вестей. Умный и боязливый старший брат принял сторону осуждающих родственников. Ремо в одиночестве продолжает сражаться с грозными ангелами. «Он не получил поддержки ни от людей, ни от Бога».
На этой мысли Октав вдруг запнулся — в нем опять начинается душевная борьба: да, именно так он пытается представить дело в своей книге... Водрузить на могиле брата маленькую беломраморную стеллу... Могила Ремо... Но не затемнило ли уже смысл эпитафии то самое лицемерие, бороться с которым до последнего дыхания Ремо считал своим долгом? На первой же странице формула «роковой несчастный случай»... И дальше — «оружие, заряженное без его ведома...» Само собой, искушенному эрудиту Октаву известно, что на старомодном французском языке всякое трагическое происшествие, не только шальной выстрел, можно деликатно поименовать «несчастным случаем». Г-жа Ирене, хотя она и сочинила несколько очерков о женщинах Великого столетия, не станет придираться и сочтет, что ее Октав придерживается того, что стало семейным символом веры: Ремо погиб, потому что взял в руки револьвер, не подозревая, что он заряжен, и по рассеянности направил его себе в грудь. И, конечно, слова «оружие, заряженное без его ведома» повторяют, на сей раз с большей определенностью, благочестивую ложь. Но можно ли поверить, что молодой человек, влюбленный в Вагнера, завел дорогую и хрупкую музыкальную игрушку, которую привез из Германии, чтобы вслед за этим сразу же перейти в соседнюю комнату и начать наводить там порядок? Быть может, Октав упрекает себя, что написал нелепую фразу, которую он однако не вычеркнет: «Внимая мелодиям, уносившим его в мир духов, он забыл, что держит в руках страшное оружие». Не точнее ли было бы сказать, что его брат, так любивший музыку, хотел переступить последний предел под аккомпанемент «странных и печальных звуков»? Разве тот Ремо, который, опершись о зеркало, следил за тем, как он сам умирает, тот молодой эрудит, тоже до конца приверженный латыни, который встретил соседа, вызванного перепуганными слугами, меланхолическим вергилиевым: «Еn morior!» Здесь: [«Ну же, смерть!» (лат.)] и с этим отдал последний вздох, выказал хоть малейший признак того, что он потрясен и напуган и еще надеется, что ему окажут помощь, физическую или духовную? Бесспорно, нет... И однако Ремо перед этим сообщил родным, что собирается пробыть у них несколько дней... Как совместить самоубийство с этим его планом, который свидетельствовал о сближении с семьей, может быть, о перемене во взглядах? Что-то в самой глубине души Октава нашептывает ему, что именно ожидание упреков и привычных споров могло ускорить поступок, к которому все склоняло Ремо, и что «порыв раскаяния», который он приписывает умирающему, «сброшенному в бездну», также ни на чем не основанная гипотеза.