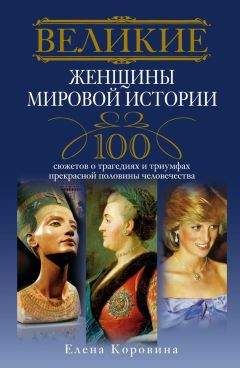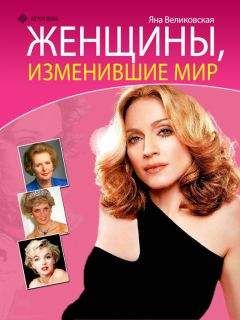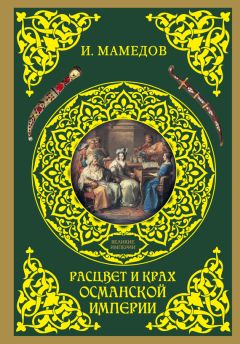Матвей Ройзман - Всё, что помню о Есенине
Есенин подошел ко мне и тихо сказал:
— После таких стихов сблюешь! Сейчас выступишь ты…
— Я же выступал, Сережа!
— Я не могу. Прочти «Молнию», «Маляра» и «Песню портного».
— Но Мариенгоф объявит тебя! Сергей подошел к Анатолию, что-то сказал ему, и тот назвал мою фамилию. Я прочитал «Молнию»:
Ты, как молния шальная,
Просверкала в майский день,
И теперь я точно знаю,
Отчего звенит сирень…
Прочитал «Маляра»:
Маляр пришел замазать
И протереть окно,—
И стекла, как алмазы,
Зажглись одно в одно.
Он фортку открывая,
Не рассчитал толчка:
Нога была от края
Всего на полвершка.
— Послушай, брат,
Довольно!
И так уж хорошо!
— Нет, ты спеши не больно —
Промолвил и сошел.
И он замазал щели,
Работая ножом,
Работал он и целил
В меня косым зрачком.
По рамам рыжей кистью
Прошелся раза два
И подоконник чистя,
Мне подарил слова:
— Я вот бежал от белых
И зацепил за крюк,
А пуля просвистела:
Не спотыкнись,—
Каюк!
И он накинул куртку
И заломил картуз,
Тугую самокрутку
Легко поднес ко рту.
И чуть склонившись ниже,
Понес ведро белил —
Сей рыцарь кисти рыжей
Дымил и уходил.
После этого я прочитал «Песню (еврейского) портного»[34]
Согну привычно ноги
На тесаном катке,—
Моя игла не дрогнет
В приученной руке.
Есенин взошел на кафедру. Как всегда, у него был бурный успех. Когда мы вышли из ворот университета, трое командоров пошли вперед. До нас доносился их «разговор по душам»: очевидно, Вадим все понял! Подробности разговора я не знаю, только дня через два Сергей сказал:
— Ты понастойчивей созывай наших на заседание! Но как ни старайся, теперь правое крыло, с приездом Ивнева, состояло из четырех человек, а левое из пяти. Выручало только то, что часто кто-нибудь из братьев Эрдман не приходил на заседание…
17
Есенин пишет стихи, рассказывает о своих детях. Доклад Мейерхольда
Зинаида Райх вспоминает о своей любви. Письмо Константина Есенина. Стихи-свидетели
В конце осени 1921 года я пришел утром в «Стойло Пегаса», чтобы просмотреть квартальный финансовый отчет, который надо было срочно отправить в Мосфинотдел. В кафе посетителей не было. В углу за столиком сидел Есенин, писал, по его правую руку лежали скомканные листы бумаги: он переписывал начисто свое стихотворение, а это всегда было связано с переделкой. Я молча прошел мимо него — он и головы не поднял, — спустился вниз. Проверив отчет, сопроводительные документы, я подписался и поставил круглую печать «Ассоциации вольнодумцев», которую захватил с собой.
А на прошлой неделе днем я столкнулся с Сергеем в дверях «Стойла», он спросил, надолго ли я здесь застряну. Я объяснил, что только отдам удостоверение буфетчице, которое она просила, и уйду.
— Куда?
— На работу в клуб Реввоенсовета.
— Пойдем со мной бульварами. Третий день над строфой бьюсь, ни черта не выходит. Ты иди рядом, никого ко мне не подпускай!
— Почему ты не спустишься вниз в какую-нибудь комнату «Стойла»?
— Там полотеры, кругом баррикады, мебели! А тут — завтраки!
— Хорошо, Сережа. Подожди минуту!
Я отдал бумагу буфетчице, и мы пошли по Тверскому бульвару. Есенин шел, опустив голову, никого и ничего не видя. Только взглянул на памятник Пушкину и, как обычно, улыбнулся. Он что-то шептал, потом, бормотал, иногда резко взмахивал правой рукой, точно бросал негодное слово на землю. Навстречу нам шла знакомая поэтесса, она явно намеревалась подойти. Я пошел вперед, остановил ее и попросил не подходить к Есенину. Она так и замерла на месте с испугом. Сергей продолжал шагать, упорно глядя себе под ноги. Теперь он не взмахивал рукой, произносил строфу и вслушивался в нее. Его лицо стало светлеть, и, когда мы прошли мимо памятника Тимирязеву, ступив на Никитский (ныне Суворовский) бульвар, Сергей устремился к первой свободной скамейке. Он сел, стал шарить руками в карманах:
— Вот черт! Бумагу забыл!
Я подаю ему вчетверо сложенный лист писчей бумаги. Есенин опять лезет в карманы, чертыхается. Я понимаю, забыл карандаш, даю свой. Он ложится ничком на скамейку и пишет округлыми, отделенными друг от друга буквами четыре строки — одна под другой… Строфа. Читает ее, вздыхает, садится:
— Вышло! — и обращается ко мне. — Не интересуешься, что я написал?
— Ты не любишь, читать в процессе работы!
— Это верно!
— И потом я запомнил твои слова: по одной строфе никогда не суди о целом стихотворении!
— Это тоже верно!..
Конечно, я не мог не запомнить строки, которые он несколько раз произносил вслух. Это стихотворение начинается так:
Сторона ли ты моя, сторона!
Работал Есенин над шестой строфой. Две первые строки остались такими, какими я их слышал:
Ну да что же? Ведь много прочих.
Не один я в миру живой!
С. Есенин. Собр. соч., т. 2, стр. 107.
Две последние строки Сергей потом снова переделал. Об этом не стоило бы писать, если бы не нашлись мемуаристы, которые заявляют, что Есенин «почти импровизировал» свои стихи. Нет! Трижды нет! За каждой строкой его стихов кроется такое напряжение души, такой неуемный труд, такая беспощадная поэтическая самокритика, что диву даешься, как можно утверждать, Есенин легко сочинял стихи.
Правда, любил он рассказывать байки о том, как легко творить. Даже в поэме написал:
Ведь я мог дать
Не то, что дал,
Что мне давалось ради шутки.
С. Есенин. Собр. соч., т. 2, стр. 198.
А бывало в «Стойле» переписывает, переписывает стихотворение, сложит аккуратно бумагу и скажет:
— Ну, я понес стихи Воронскому! (В редакцию «Красной нови»). Приду к обеду!
Через минут десять-пятнадцать возвращается в «Стойло». В чем дело? Разонравилась одна строка, надо переписать!
Вот, Сережа, то, что ты называешь шуткой, была твоя жизнь. В конце 1925 года, когда почему-либо тебе не писалось, ты места себе не находил, и, может быть, эта шутка и сыграла свою страшную роль в твоей усиливающейся болезни и в том жестоком решении, которое ты принял в ленинградском «Англетере»…