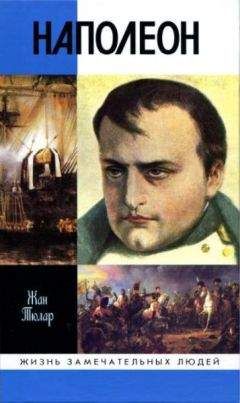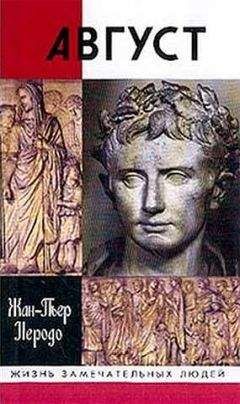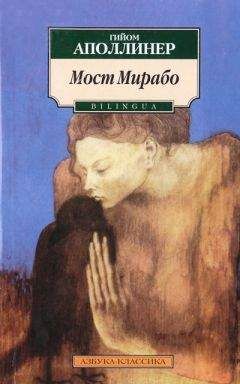Вацлав Нижинский. Его жизнь, его творчество, его мысли - Сард Гийом
Я привел пример пор-де-бра, потому что смена ритма, очень важная для движений ног (в девелоппе, например), очень заметна и в жестах рук. Нижинский был для современников воплощением грации потому, что он прекрасно понимал важность смены ритма в танце, и в частности при работе рук. Разминаясь перед спектаклем, он всегда разрабатывал руки.
Я никогда не видела более красивых движений рук и кистей, пишет его сестра (ставшая хореографом). Поднятые над головой, они разворачивались, словно лепестки цветка.
Можно рискнуть остановиться на таком определении: порожденная легкостью и сменой ритма жестов, грация – это такое качество, которое делает тело привлекательным в движении.
Исполнитель
Нижинский был превосходным танцором: прыжки его были невероятно высокими, а жесты – плавными и полными грации. Но, без сомнения, его бы не запомнили как танцовщика-виртуоза, если бы он обладал лишь этими качествами. Иными словами, Нижинский был не только «человеком-машиной», «танцующим автоматом», тем типом танцора, над которым иронизировал Новерр, осуждая стремление к виртуозной технике ради нее самой: теоретик балета считал такое искусство бездушным и достойным жалости. В своих «Письмах о танце» он писал о том, что «нелепо жертвовать выразительностью и чувством лишь для того, чтобы щегольнуть гибкостью стана и проворством ног». И еще:
Голова танцовщика редко руководит его ногами, а поскольку ноги не являются обиталищем разума, им нетрудно и заблудиться. Человек как разумное существо исчезает, остается плохо слаженная машина, вызывающая лишь восторги глупцов да справедливое презрение ценителей. (…) Довольно нам походить на марионеток; движимые с помощью грубых нитей, они способны обманывать и пленять одну только чернь.
С оглядкой на эти слова, можно сказать, что Нижинский был великим артистом. Также уверенный в этом Стравинский сказал:
Его недостаточно назвать танцовщиком, в еще большей степени он был драматическим актером.
Обаяние
Нижинский был харизматической личностью. Когда появлялся на сцене, говорит его сестра, «он приковывал к себе взгляды зрителей; зачарованные, они смотрели на него так, как если бы перед ними был великолепный предмет искусства». Для того чтобы объяснить это, не обязательно, как Франсуаз Рейс, говорить об исходящих от танцора «волнах эмоций», которые «зрители улавливают и превращают в волны симпатии», возвращающиеся к нему. [207] Такие рассуждения лишь доказывают, до какой степени аберрации восприятия может дойти умный человек, если он утратил меру в использовании умозрительных построений. Нет, Нижинский моментально завладевал вниманием публики просто потому, что движения его отличали грация и животное обаяние. Эти редкие качества были у него так ярко выражены, что он непеременно выделялся среди других. Люди всегда испытывали особое влечение к тому, что обозначается словом mon-strum, [208] и поэтому естественно, что Нижинский привлекал умы. (К тому же он всегда исполнял главные роли, что, следует признать, делало его заметнее остальных танцоров.)
Но тут перед нами встает вопрос, как Нижинский, в обычной жизни не проявлявший тонкости и чувствительности, часто ведший себя вульгарно и высказывавший весьма посредственные суждения, – как объяснить, что такой человек становился настолько притягателен на сцене?
Преображение
Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует обратиться к Кокто.
Нижинский был ниже среднего роста, и в его фигуре не было ничего гармоничного; к тому же он был так застенчив, что временами казался почти невидимым. На рабочих репетициях он тоже не производил особенного впечатления. Но свет рампы, костюм и грим преображали его полностью. [209] (…) В нем все было устроено так, чтобы смотреться в свете прожекторов. На сцене его слишком выпуклые мускулы ратягивались и придавали ему стройность. Он делалася выше ростом (пятки его никогда не касались земли), кисти становились листвой гибких рук, а лицо излучало свет. Тому, кто не видел этого преображения, трудно представить себе, как такое возможно. [210]
Существует по крайней мере четыре объяснения перемены, происходившей с Нижинским на сцене. Во-первых, он появлялся в костюме. Сказанное может показаться банальностью, если не учитывать степень трансформации, которая зависела от того, насколько искусно наложен грим. Чтобы увериться в этом, достаточно взглянуть на фотографии Нижинского в костюме персонажа балетов «Призрак розы» и «Петрушки». Во-вторых, он всегда танцевал, не касаясь сцены полной стопой, а это визуально увеличивало рост. Его ноги, которые иначе казались бы слишком короткими и толстыми, выглядели стройнее и длиннее. В-третьих, благодаря движениям гибких рук Нижинский был воплощением грации. А грация, как уже сказано выше, проявляется только в движении. Если Нижинский был удивительно грациозен в обычной жизни (так уверяет Клодель), то в танце это проявлялось еще очевиднее; но на некоторых фотографиях и рисунках он выглядит почти уродливо. Грациозность невероятно меняла восприятие его внешности, придавая очарование, которое в других условиях было незаметно. В-четвертых, таким непохожим на других Нижинского делало то, что на сцене от него исходил свет. Безусловно, не следует понимать это выражение буквально, как делает Франсуаз Рейс – нет! тысячу раз нет! – поскольку оно имеет лишь силу метафоры. Если Нижинский и «светился», то потому, что лицо его выражало невыразимое счастье. Сам он писал: «Я буду счастливейшим человеком, когда буду играть и танцевать». Находясь на сцене, он, по словам сестры, «весь излучал радость»; Нижинский испытывал радость каждый раз, когда выходил на сцену, и при этом никто не поверил бы, что в повседневной жизни он был угрюм и равнодушен. Так его преображал танец. По словам Бурмана, сложно было поверить, что «этот подросток, воздушный и целомудренный, в мгновение ока превращался в страстного темнокожего раба из “Шахерезады”». [211]
Достоверность жестов
Еще одно качество делало Нижинского великим танцовщиком, а именно достоверность его игры. В Императорской школе он не только занимался танцем, но и посещал уроки пантомимы. И преуспел в обоих искусствах.
Я посещал курсы Гердта, писал Анатолий Бурман, и в движениях Вацлава было столько силы, столько убедительности, что у меня мурашки пошли по коже и меня почему-то охватил страх. [212]
Никогда прежде ни один танцовщик не растворялся без остатка в своих ролях, как это делал Нижинский. Когда танцевал, он не был Нижинским, исполнявшим роль Альберта, Петрушки или Фавна, он становился Альбертом, Петрушкой или Фавном. Такая способность забыть себя и делала его великим исполнителем и придавала его образам столько завораживающей достоверности. Здесь двух мнений быть не может. Лидия Соколова о его исполнении роли Фавна писала:
Момент перед тем, как он, объятый любовной истомой, ложился на шарф, был незабываем: он становился на одно колено, в то время как другая нога была вытянута назад. Неожиданно он запрокидывал голову и обнажал зубы в беззвучном смехе. Это был потрясающий театр!
Музыковед Мишель Кальвакоресси по поводу представления «Шахерезады» писал: «Нижинский в первый раз показал – по крайней мере, во Франции, – что в искусстве пантомимы он так же неподражаем, как и в танце». [213] В этом балете сцена смерти производила ошеломляющее впечатление: «он бился об пол, как пойманная рыба о дно лодки» (Кокто).