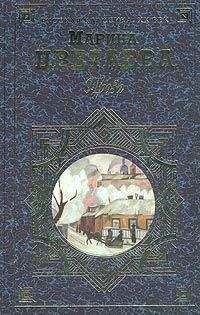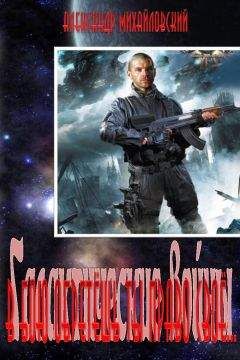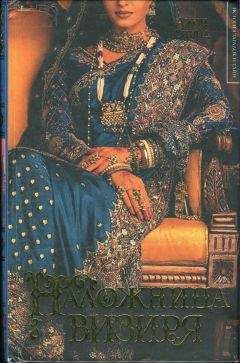Евгенией Сомов - Обыкновенная история в необыкновенной стране
Мы же, столичные немцы, были воспитаны в совершенно других условиях. Наши предки при царе были военными, предпринимателями, инженерами, чиновниками администрации, так как и сам царский двор был в основном по своему составу немецким. Отличались мы и по происхождению: если «волжане» происходили в основном из штутгарских сектантов-менонитов, наши предки пришли в столицы из Прибалтики и часто по приглашению самого двора, да и многие были прусскими дворянами, хотя частичка «фон» постепенно утрачивалась, так как столичные немцы стремились не отличаться от русских и никогда не кичились своим происхождением.
Хотя обе эти группы немецкого населения имели общую судьбу, находились под постоянным давлением органов КГБ/НКВД, при встрече говорить им было не о чем, и отчужденность и недоверие постоянно чувствовались, хотя антагонизма и не было.
Медленно, но мы врастали в эту новую жизнь. Постепенно менялся и наш внешний облик: вместо городских пальто и ботинок с галошами появились ватники защитного цвета, шубы, русские сапоги. Атмосфера же духовной жизни в нашей семье не менялась. Через неделю после прибытия сестра отыскала городскую библиотеку и погрузилась в свой любимый мир чтения: пошли романы Стендаля, Бальзака, Виктора Гюго. Я также начал заглядывать в эти книги, хотя их толщина меня отпугивала — читал я медленно и описания природы пропускал. Мама в этой глуши тщетно пыталась найти для себя инструмент, фортепиано, но музыкальными инструментами здесь были лишь баян и аккордеон.
У мамы сложилось впечатление, что в военной неразберихе КГБ потерял нас из виду и что мы теперь как бы просто эвакуированные в Казахстан из блокированного Ленинграда, а никакие не ссыльные немцы. Это оставляло смутную надежду, что по окончании войны мы сможем вернуться вместе с филиалом института в наш родной город.
Шла война. И хотя Кокчетав и находился в пяти тысячах километрах от линии фронта, отзвуки этой народной беды доносились и до нас. Вместе с извещениями о гибели на фронте — «похоронками» в город постоянно прибывали инвалиды войны. Часто с еще свежими бинтами на ампутированных конечностях, с орденами и медалями на гимнастерках. Они сходились вместе на базарной площади, да и распивали вместе по маленькой — что им еще оставалось. На пенсию, которую они получали, прожить было невозможно, а работать они не могли.
Навстречу потоку раненых из городской ротной школы каждые пять месяцев отправлялся на фронт новый батальон. Наспех обученные, молодые совсем парни, шли они строем под духовой оркестр из города к эшелону на железнодорожной станции, а рядом по обочине бежали их матери со своими прощальными гостинцами — мешками сухарей и сала. Они знали, что вернется из них только половина.
Хотя я и не мог себе ясно представить, что такое Германия «Третьего рейха», но по газетным статьям и кинохронике мне становилось ясно, что там такая же тоталитарная власть, как и у нас, и что там так же, как и у нас, никакой демократии не существует и за любое критическое высказывание против режима могут арестовать. Знал я также и то, что в Берлине живут наши родственники: дядя Шура Майер с тетей Сонатой, семья Мирзалисов, Рихард и Амалия Ратке. Почтовая связь с ними из страха перед НКВД была прервана еще в 1937 году, мама часто нам рассказывала о них. Хотя до конца 1942 года немецкая армия успешно продвигалась по территории России к Волге, я понимал, что принести нашей стране свободу она не может, по всей видимости, один режим в случае победы будет заменен другим, поэтому симпатии к фашизму я не испытывал. Но что точно я ненавидел, так это сталинскую диктатуру. Возникали мысли, что поражение советов в войне с последующим разгромом Германии союзниками может создать в России условия для установления правового государства. Победа же советов еще больше укрепит сталинизм, и государственный террор в стране станет еще сильнее. Поэтому патриотических чувств я также не испытывал. Но самой страшной перспективой для меня было оказаться на фронте и воевать за укрепление сталинского режима.
Так как ленинградская блокада заставила меня пропустить один учебный год в школе, то по возрасту я мог уже сразу по окончании десятого класса быть призванным в офицерскую школу и через шесть месяцев оказаться на фронте. Отсрочка от армии могла быть получена только в том случае, если я окончу школу на год раньше и с «золотым аттестатом», что позволит мне без экзаменов поступить в любой технический «оборонный» институт, учеба в котором временно освобождает от призыва в армию. Это означало, что я должен за один год закончить два класса, восьмой и девятый, да еще получить все отличные оценки. Вначале мне показалось это совершенно невозможным, я мало доверял своим способностям. Но не оставалось ничего другого, как попробовать. И я начал пробовать, получил разрешение посещать оба класса одновременно: один в первую смену, другой во вторую. Но этого было недостаточно, дирекция поставила условие, что я должен уже в первое полугодие выдержать все экзамены экстерном за восьмой класс и второе полугодие учиться только в девятом классе. Началась кошмарная жизнь: мне иногда приходилось писать два литературных сочинения в день в разных классах и вечером до поздней ночи готовиться к следующему дню. Все выходные дни я вынужден был зубрить учебники дома. Особенно трудна была математика, в которой я был не силен, а требовалась только высшая оценка. Больше же всего я любил химию, читал уже учебники высшей школы и посещал лабораторию химии в институте, где работала мама, там я ставил свои химические опыты. Мои знания химии были замечены в школе, преподаватель отпускал меня домой учить другие предметы.
Эти полгода оказались для меня тяжелейшим испытанием, справиться с которым мне очень помогала моя сестра, отлично разбиравшаяся в математике. Однако в январе я сдал все экзамены за восьмой класс, и учеба во втором полугодии только в одном классе показалась мне просто отдыхом. Это испытание позволило мне на всю жизнь понять, что в основе всякого образования лежит самообразование.
Москва находится где-то бесконечно далеко на запад от Кокчетава, хотя присутствие советской власти здесь ощущается, пожалуй, еще острее. Если в Москве вновь испеченный член партии порой продолжает работать как простой рабочий, то здесь он сразу же взлетает вверх, в какое-нибудь мягкое кресло руководителя, бригадира, председателя колхоза, и после этого все блага и привилегии советской системы открываются для него в виде государственной квартиры, машины, особого распределителя продовольственных пайков и высокой зарплаты. Он вступает в особый клан «партийных товарищей», связанных круговой порукой, и должен всемерно поддерживать их, выполняя все приказы партии без обсуждений. Попасть, конечно, в этот клан можно лишь за большие заслуги или через связи, но уж если попал… Для того, чтобы узнавать «своих», они начинали одеваться в своем «партийном» стиле, беря за образец одежду вождей и иных вышестоящих. Каждый должен носить форму по своему чину и значению: председатель колхоза — гимнастерку с ремнем и простые сапоги, районный секретарь — уже френч и синие галифе, снаружи серый плащ и сталинскую фуражку, а уж если секретарь обкома, тогда он может позволить себе и ослепительно белый френч с золочеными пуговицами, и синие брюки с лакированными ботинками. Конечно же, никто не должен носить обручальных колец или каких-либо пестрых галстуков: «слуги народа» просты и скромны во всем. Почти все они в нашем провинциальном городке знали друг друга в лицо, по-особому здоровались за руку, затем сразу же следовал какой-нибудь вопрос или о здоровье жены, или о сыне, или удобна ли новая квартира, словом, забота друг о друге прежде всего. На праздники приглашаются только свои, и свадьбы между своими, дабы не допустить в стадо волка. Ну уж если кто-либо не по чину хапнул или просто совершил растрату, так прежде чем до суда допустить, дело рассматривается на закрытом бюро, келейно: провинившийся должен покаяться, просить, и тогда простят, в худшем случае на другой стул пересадят, немножко пониже, но все равно руководящий. В этом кругу уже никакого явного антагонизма между русскими «чалдонами» и казахскими «колбитами» не обнаруживается, тут уже нет национальности, тут родная партия — родина для всех.