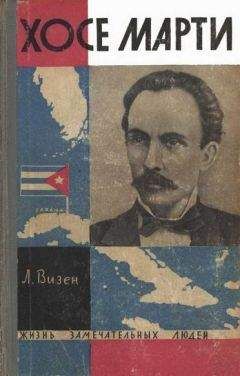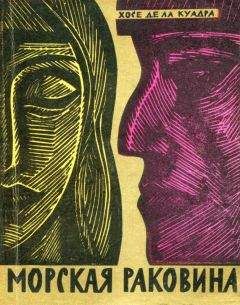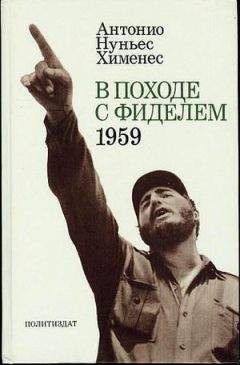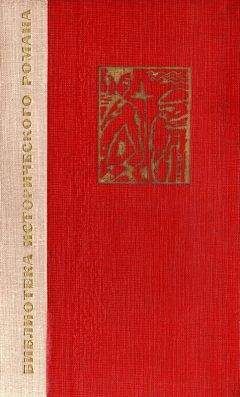Владимир Кораблинов - Жизнь Никитина
Батенька, как всегда, был изрядно навеселе, но благодушен, посмеивался в бороду, шутил. Потешался над простотой своего случайного знакомца: за четвертной билет всучил недотепе старую таратайку, дрянь, рухлядь, которая, сказать по правде, и синенькой-то не стоит.
– Вот так-то, стюдент! – похлопал по плечу сына. – Мотай на ус, пригодится…
Он бахвалился, похохатывал, довольный собой, своею ловкостью в торговом деле, начисто позабыв про недавние собственные промахи и неудачи. Над ним ведь над самим нынче потешались базарные маклаки, злословили о его разорении, и он знал про то и ненавидел вчерашних своих друзей; но хмель в нем бушевал, замазывал глаза, умного и хитрого превращал в наглого хвастуна, в пустобреха. Ивану Савичу стыдно было глядеть на расходившегося отца, он сидел, потупившись, не прикасаясь к еде, терпеливо ждал, когда родитель угомонится, пойдет спать. Но тот краснобайствовал без удержу, долбил и долбил свое – как жить надлежит умному человеку, то есть где, значится, ему кречетом воспарить, а где пришипиться, козявкой мелкой прижукнуть, разуметь свое, значится, место в жизни…
– А то ить оно как выходит? Вон нынче, поди, слыхал – Кольцовых малого хоронили… Ай-яй-яй! Ну, глупой же! Нет бы отцовским быкам смирнехонько хвосты крутить, аи возомнил, дурачок, в сочинительство вдарился… Ну, какой из его…
Ивана Савича передернуло: нет, это уж бог знает что! Плутуй, бахвалься, но светлой, чистой памяти поэта не смей касаться грязными ручищами!
– Батенька, – сказал Иван Савич. – Я прошу вас, батенька…
– Нет, ты скажи, – не слушая сына, бубнил старик, – скажи, какой из его сочинитель? Из его сочинитель, как из мово свата тяж! Давеча от Копенкиных приказчик книжку добыл, читал нам Кольцова стих… Боже ж ты мой милосливый! Как в гости приехали, стал быть, про лапшу, про пироги… Ай-яй-яй! Сочинитель! Да этак-то и всякий, слышь, про лапшу сочинит! Не-е-ет, ты вот как давай: «Когда впадем мы в грех, сим варваром прельщенны, что раздувает в нас огнь адския геенны…» Во как! А то – экось, лапша!..
Веселость Саввы, его благодушие надоумили смиренную, робкую маменьку сунуться со своей докукой.
– Ох, Евтеич, – сказала, – тут утресь от Тюриных девка приходила, опять ведь в лёжку лежит отец-то… головка горькая!
– Ну-у? – Савва враз насторожился, посуровел. – И што жа?
– Так рублик просила христом-богом… Дай, говорит, только поправится – отдасть…
– «Отдасть»! – передразнил Савва. – Знаем мы, как они отдают, чижовские твои кусошники…
– Право слово, Евтеич, отдасть…
– А-а! – Старик вдруг закипел, все его благодушие словно в тартарары провалилось. – Во-он чего! То-то я гляжу: была вечор масла бутыль непочатая, а нонче наполовину усохла. Куды делась? На Чижовку утекла?
Прасковья Ивановна заплакала.
– Так подавитесь же вы все моим добром! – закричал Савва: – Нате! Трескайте!
Шваркнул об пол оловянную миску, пинком поддал тяжелый, грубой плотницкой работы стул. Он любил этак побуянить, наделать шуму, но чтоб какую домашнюю вещь разбить, исковеркать, причинить убыток в хозяйстве – этого нет, избавь бог, с ним никогда не случалось.
Семинария
Ах, прости, святой угодник!
И. НикитинСеминария была скучна, ненавистна. Самый воздух ее, тяжелый, застойный, пропитанный прокисшей пищей, немытым телом и вечным угаром от плохо, скопидомно топленных печей, угнетал. Темные классы, темные, затхлые коридоры, мертвые, темные церковные лженауки семинарские – все таким образом было устроено, чтобы окончательно омертвить молодые умы, уже наполовину умерщвленные бессмысленной зубрежкой, голодом и унизительными наказаниями в шести младших классах духовного училища. В семинарию приходили люди, уже вдоволь хлебнувшие распроклятой бурсы, с поротыми и перепоротыми спинами, с отвращением к науке, с особенной бурсацкой философией, суть которой заключалась в перелицовке знаменитого силлогизма: «Все люди суть скоты, я есмь человек, следовательно, скот и я». Эта горькая, уродливая философия развязывала руки, разрешала любое свинство – ложь, грубость, издевательство сильного над слабым.
Особенно страшна была семинария для тех, кому приходилось весь учебный год жить в ее стенах, «на казенном коште», как это называлось. Всю мерзость семинарского обихода они испытывали на себе; все чистое, доброе, что еще оставалась в них, захлестывалось беспощадной удавкой семинарского бытия. Своекоштным, то есть тем, кто жил дома или на квартире, дышалось свободнее.
Никитин числился в своекоштных. Но вряд ли намного легче жилось ему в родительском доме. Быстро промелькнувшая пора далекого детства – вот, кажется, единственная светлая страница его жизни. Она мерцала, как узенькая ясная полоска рассветного неба в начале долгого ненастного дня. От этой поры осталось в памяти немного: зимний вечер, вьюга за окном, мигающий язычок свечи… нянькино полусонное бормотанье, бесконечная сказка про серого волка, про птицу-жар, про девицу-раскрасавицу Милитрису Кирбитьевну: «…и вот, стал быть, сударик мой, батюшка, ударился он о сыру землю да исделался уж такой-то молодец…» Или еще: летнее вечернее небо, где одна за другой зажигаются звездочки, и опять-таки – сказки, сказки… Но это уже о разбойниках, о мертвецах. Старик Кочетков, ночной сторож при отцовском заводе, великий был мастер сказывать страшное.
Но погасла рассветная зорька младенчества и наступил серый день, беспросветный, переходящий в ночь так незаметно, так сливающийся с ней, что как бы одна бесконечная ночь настала в жизни Ивана Савича.
Началом этой длинной ночи была бурса. Она в те годы еще при монастыре ютилась, один вид ее чего стоил: тюрьма и тюрьма. Толстые облупленные кирпичные стены, узенькие, забранные чугунными решетками окна, не окна, скорее – бойницы; а внутри сводчатые низенькие казематы – классы, вечные сумерки, холодище, кислый смрад и огромные тощие, злые крысы, вкупе с отцом экономом и поваром уничтожающие без того скудный бурсацкий провиант.
Учиться Никитину было легко; мальчик прилежный, любознательный, он в духовном училище все шесть классов шел в первом разряде, табель пестрел отметками «изрядно» и «весьма изрядно». Науки давались без труда, он все запоминал с лету, особенно из истории и географии. С арифметикой было труднее, ее он побеждал не быстротою разума, но прилежанием. В задачках его прежде всего занимали не вычисления, а смысл того, что происходит: ямщики скачут навстречу друг другу, купцы из Кяхты в цибиках чай везут, по трубам вода течет в бассейн. И он живо воображал пьяных краснорожих ямщиков, гордый бег коренника и как пристяжки воротят шеи в стороны, а пыль вьется за почтовой тележкой и долго в жарком степном мареве висит серым облачком над большаком… Верблюды, нагруженные тюками, бредут по пескам, везут чай… А вдруг – разбойники? Выхвачены кинжалы, гремит стрельба, кто-то стонет, сраженный разбойничьей пулей… Страшно! В бассейне вода стоячая, зеленая, чуть колеблется в двух местах затем, что глубоко на дне – две трубы, из которых день и ночь все льется, все льется, день и ночь… день и ночь…