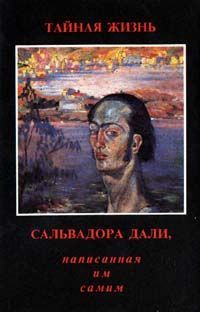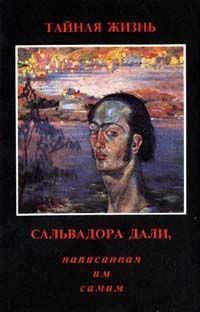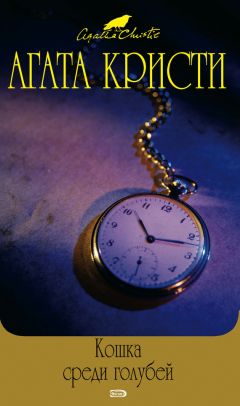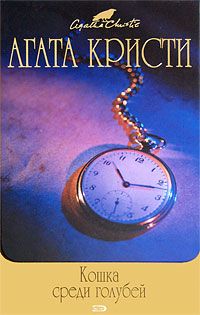Иван Лажечников - Походные записки русского офицера
Но – кто из них того ожидал? Обе сестры, приближаясь к середине Каменного моста, схватив друг дружку за руки, пустились бежать, перелезли одни перила, перекрестились, показали рукой на небо, влезли на другие перила и одна за другой бросились в реку! Все это совершилось в несколько мгновений. Французы от изумления и ужаса стояли неподвижны, не верили глазам своим и не знали, что начать. Хотели вытащить несчастных из воды, но, найдя их совершенно обезображенными сильным ударом о камни, во множестве разделяющие течение Москвы-реки, отдали их на произвол стремнины. В глубоком молчании, как приговоренные к смерти преступники, возвратились они домой. В сердце не смели они заглянуть: в нем гнездился уже грозный спутник, до престола Вечного Судии с ними неразлучный; не осмеливались они взирать и на небо: там начертана была будущая судьба их! Что сделалось с несчастным отцом? Он в объятиях веры старался искать утешения и, может быть, ныне нашел его. Что сделалось с злополучными женихами? Ничего не слыхал. Если бы я писал роман, а не истинное приключение, то сказал бы, что один из них путем смерти и славы соединился с любезной, другой же, заключив себя в монастырских стенах, остался телом жить на земле…
Сотни подобных происшествий ознаменовали сентябрь месяц 1812 года, французские бивуаки в Москве блистали многими подобными огнями. Безумные пришлецы узнали, каково незваным гостям гостить в русской столице и каким образом рабствуют на севере. Не одна тысяча их лежит в погребах, колодезях и под мельницами. Если бы собрать все черты мужества, твердости нравов и других добродетелей, исполнявших русских во время пребывания французов в Москве, то можно бы написать целые книги. Искусным перу, резцу и кисти предстоят труд и слава вывести из мрака неизвестности геройские дела соотечественников и представить их во всем блеске на сцену мира.
Москва, 18 октября
Москва начинает стряхать с себя пепел и мало-помалу оживляется. Гений ее, бродя по развалинам, собирает снова детей вокруг печальной, но всегда бесценной сердцу матери и ласкает их утешительной надеждой, что счастье, богатство и слава посыплют на нее свежие венки. Жители понемногу стекаются в Москву. Между развалинами ходят иные, как Радклифовы привидения, и ищут следов своих жилищ и имуществ; другие, одиночкой или парами, встречаются вам на улицах и спрашивают вас о той, на которой сами находятся. Через заставы пробираются огромные возы с жизненными потребностями; на рынках волнуется народ и жужжит, как рой пчелиный с приближением цветущей весны. Ремесленники на площадях предлагают вам свои услуги; каменщики и плотники считают тучные задатки. Уже извозчики на быстрых иноходцах мчат вас из края в край города, и петербургская карета один раз в сутки стучит по мостовой. Уже шумит топор, и веселое его эхо отзывается в моем сердце. В Москве можете ныне найти теплый угол, вкусный обед, все необходимые потребности жизни за недорогую цену и даже предметы роскоши. Перед развалинами Гостиного двора видите скромные палатки, столы, стулья и треножники, на которых лежат товары, хотя не в изобилии, но довольно хорошие. Каждый день принимает город лучший и приятнейший вид. Можно сравнить Москву с прекрасной женщиной, которая во время печального траура лишилась лучших своих прелестей. Наступил конец горестного испытания, и она, забыв прошедшее, улыбается будущему, спешит рядиться в новую, разноцветную одежду, любуется в зеркале оживлением своих прелестей и с каждой новой минутой готовит своим обожателям новые приятности.
Наконец расстаюсь с тобой, Москва, древнее жилище царей, колыбель и гроб многих из них, средоточие богатства, изобилия и веселостей России и родина моя священная! Видел я тебя цветущей, красивой, величественной; зрел я твои развалины: да порадуюсь некогда возобновлению твоего великолепия, красоты и славы твоей – и скажу с гордостию московитянина:
Что матушки Москвы и краше, и милее?
С. Хатунь, 20 октября
В кругу семейства одного из здешних поселян, за дубовым столом, за русским хлебом с солью, подтвердил я сам себе замечание, деланное уже мной несколько раз насчет счастливой жизни крестьян графини Орловой. Красивая наружность домов, опрятность и порядок во внутренности их, довольство в пище их обитателей, чистота и богатство в одеждах, свежесть и здоровье лиц, живость в обращении и делах торговых, более людскости, более рассудительности и лучшая нравственность: вот что отличает их от многих других помещичьих крестьян. И всем этим обязаны они человеколюбивым о них попечениям молодой наследницы имения и душевного богатства героя Чесменского. Зато нет ни одного, который бы не произносил ее имени с сердечной признательностью, нет ни одного, который бы не благословлял кроткой, милосердной своей властительницы. Что же должна чувствовать она в душе своей? Какие торжества, какие награды могут сравниться с удовольствием брать с тысячей богатейшую дань любовию, внимать себе от подданных детей искреннюю похвалу и слышать отзыв их благодарности во глубине своего сердца? Тут я вспомнил о покойном графе Алексее Григорьевиче и сказал сам себе: как родитель был страшен врагам на морях, так дочь в хижинах любима и благословляема.
В почтенном хозяине моем представляется мне живой урок многим мудрецам нашего века. Нежный отец и вместе строгий правитель и судия своего семейства, красноречивый оратор за мирское дело, жаркий защитник слабого и невинного в сельских советах, трудолюбивый возделыватель полей и, следственно, полезный член Отечеству, покорный властям и всякому порядку по тем же законам, по каким сам почитаем в своем доме, добрый христианин без умствований, верный подданный, чтящий в царе своем образ всевышнего правителя на земле, мудрец, читающий каждый день великую книгу природы, – он постигнул сердцем, что следовать ее простым велениям есть повиноваться воле Бога.
Ныне празднуют здесь изгнание врагов из Москвы. Я поспешил за поселянами в церковь. Умный пастырь, кончив священное служение, обратил к своему стаду трогательную, простую речь. Он говорил о торжестве любви к Отечеству, к царю и вере – не фигурами, не набросанными одним на другое умствованиями, – он говорил сердцу красноречием природы, и сердце каждого понимало его без изъяснений. Ему известно было, что простые примеры, собранные в кругу тех, к которым обращался, у плуга и на торжищах, в дымной хижине и в богатой светлице, подействуют сильнее на душу селянина, нежели взятые из какой-нибудь риторики пыльные образчики. Он знал, что нравоучение, чистое и всем внятное, почерпнутое из христианской нравственности (которой должна также служить самая жизнь пастыря), лучше запутанного красноречия древних и новых умствователей; он знал это очень хорошо – и знание свое умел употреблять в пользу. Крестьянин, слушая его с искренним, душевным участием и уважением, не имеет нужды (как часто случается) спрашивать у своего товарища: «что говорит батюшка? я слышал, что он проповедует красно, да я его не разумею», – и тому подобное. Жителя села, простого сына природы, не тронешь и не убедишь ученостью, он послушен более красноречию матери своей и всегда верный данник ее всем сердцем и душой. Хвалю трогательное и простое риторство здешнего священника и желаю искренно, чтобы сельские наши пастыри взяли его образцом для подражания.