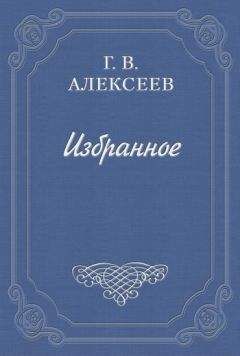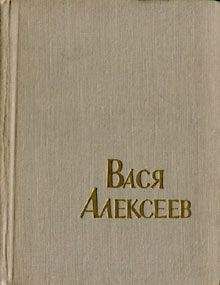Александр Алексеев - Воспоминания артиста императорских театров А.А. Алексеева
III
Наша школьная любовь. — Встреча с директором театров А.М. Гедеоновым. — Трубная. — Гедеонов, как начальник и человек. — Актер Калинин и Радин.
В театральном училище во все времена была развита «любовь». Каждый воспитаннику также как и воспитанница, имели свои «предметы», боготворимые и обожаемые ими. Не смотря на всю строгость училищного начальства, неусыпно следившего за чистотою наших нравов, и на то, что женские и мужские классы были искусно изолированы друг от друга, мы, однако, поддерживали различными хитроумными способами общение и не могли особенно жаловаться на редкость свиданий. Во-первых, мы могли видеть друг друга в окна, хотя окна мужских дортуаров не были vis-a-vis с окнами женских, а приходились под ними, так что воспитанники, разговаривая с воспитанницами, должны были лежать на подоконнике вниз спиной; во-вторых, тайно, под страхом ответственности, сходились на черной лестнице, откуда, однако, нас немилосердно изгонял всякий, кому нужно и не нужно, начиная с Федорова и кончая кухонным мужиком, понимавшим отлично всю противозаконность наших свиданий и тешившимся нашею трусливостью; в-третьих, мы виделись в церкви, хотя опять-таки за нами тут был зоркий надзор и нашу группу воспитанников от группы воспитанниц отделял учебный ареопаг, с олимпийским величием взиравший на молодежь, таявшую под влюбленными взглядами своих «предметов». Разумеется, это положение не из завидных, но мы, покорные судьбе, были довольны и им: в продолжение почти двух часов беспрерывно могли мы любоваться друг другом, изредка приветливо улыбнуться, многозначительно кивнуть головой и иногда даже обменяться записками, преисполненными ласковыми подкупающими фразами, уверениями, клятвами. И во всем этом было так много жизни, так много поэзии…
Школьная любовь не всегда была буквально «школьною», очень часто она имела серьезные последствия; многие по выходе из училища оставались верными своему первому увлеченно и вступали в супружество.
У меня и у Леонидова, с которым я близко сошелся на школьной скамье и продолжал быть дружным все время нашего совместного служения на казенной сцене, было тоже по любовному предмету. Я обожал Евгению Скильзевскую, а он Горину, из балетного отделения. Когда мы с ним поступили на сцену и покинули училищные стены, они еще продолжали учиться и, следовательно, были для нас запретным плодом гораздо в большей степени, чем прежде, когда жили под одной кровлей. Наше общение с ними стало ограничиваться перепискою, крайне затруднительною и только разжигавшею в нас сильные порывы любви.
Однажды в ответном своем послании наши дамы просили нас доставить им сладостей, но не конфет, а что-нибудь в виде сладких пирожков. Желая как можно скорее удовлетворить прихоти Гориной и Скильзевской, мы в тот же день купили громадный сливочный торт и поехали в Театральную улицу. Не смея войти в училище, мы остановились на противоположной стороне улицы (где теперь консерватория) и обратили наши взоры на верхние этажи, из окон которых выглядывали воспитанницы, обыкновенно рассматривавшие своих многочисленных поклонников, устраивавших в определенное время дня свои терпеливые прогулки под заветными окнами театральной школы. Вскоре показались наши пассии, и у нас начался оживленный разговор по собственному телеграфу, в котором наибольшее участие принимали глаза, руки и голова.
В то время, как мы просили выслать к нам, на улицу, служанку для приема от нас пирога, из училищного подъезда вышел, незамеченный нами, директор театров А.М. Гедеонов. Он несколько минут наблюдал наши мимические переговоры и, наконец, сердитым голосом крикнул:
— Подойдите-ка сюда!
Мы взглянули в сторону крикнувшего и обомлели. Гедеонов повторил приглашение.
Сконфуженные и смущенные, мы перебежали через дорогу.
— Вы это чем же изволите заниматься на улице?
— Ваше превосходительство… — начал было что-то в оправдание свое Леонидов, но Александр Михайлович его раздраженно перебил:
— Ничего нового вы мне не скажете! Отвечайте на вопросы… Вы кто такие?
— Артисты императорского театра!
— Артисты императорского театра? — с ужасом воскликнул Гедеонов. — И вам не стыдно устраивать балаганные представления на улице? Не стыдно своим людям подавать примеры посторонним повесничать перед окнами глупых девчонок? Ведь вы уже не школьники, пора вам действовать сообразно с вашим положением!..
Прочтя нам это наставление, директор театров насупил брови и отчетливо произнес, грозя в такт указательным пальцем:
— Если вы еще раз когда-нибудь вздумаете остановиться хоть на один миг на этой улице, то из артистов я превращу вас в солдат! Слышите?
И, не дожидаясь нашего ответа, крикнул:
— Вон отсюда, негодные школьники!..
Вся эта сцена произошла потому, что мы попались ему в минуты гнева. В другое время Александр Михайлович ограничился бы только легкой укоризной самого безобидного свойства, и сам бы первый рассмеялся нашей затее, но, будучи в нехорошем расположены духа, он в состоянии был подвергнуть нас строжайшим взысканиям и посадить под арест в знаменитую трубную. «Трубною» называлась одна из комнат театральных сторожей, лишенная какой бы то ни было обстановки и имевшая значение арестантской. В ней только и была одна большая скамейка, так что арестованный должен был или сам отправляться к себе домой за подушкой и одеялом, или посылать за этим сторожа. Арест обыкновенно бывал суточный, но за особенно большие проступки провинившихся сажали на два-три и более дня.
Этой «трубной», кажется, никто из драматической труппы не избегнул: уединялись в ней и Самойлов, и Мартынову и Максимову и Сосницкий, и в особенности Прохоров о котором речь впереди. Сажали и за незнание роли, и за пьянство, и за неуважение начальства, словом за все, за что теперь подвергают штрафам. Каждому арестованному, по положению, отпускалось 15 копеек суточных на харчи. Первый раз я попал в «трубную» за водевильный куплет, слова которого я перепутал на спектакле, но так, что не всякий из публики понял мой промах…
Характеризуя Александра Михайловича Гедеонова, нельзя не помянуть его добрым словом. Это был прекрасный человек во всех отношениях. Отзывчивый, бесконечно добрый, всегда готовый помочь ближнему, в особенности своему подчиненному, он снискал себе всеобщую любовь и уважение. Будучи, как говорится, «в духе», он выслушает каждого, войдет в его положение, вместе плакать будет, но избави Бог попасться ему в минуты гнева. Разнесет ни за что, никакие убеждения, просьбы не тронут его расходившегося сердца. Его злость обыкновенно выражалась в беспрерывном свисте и ажитированной беготне по кабинету из угла в угол, с заложенными за спину руками.