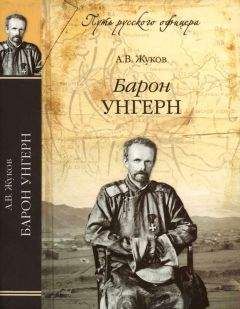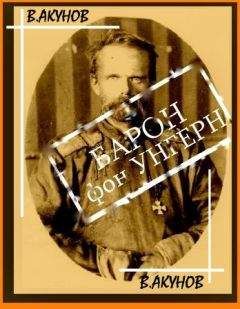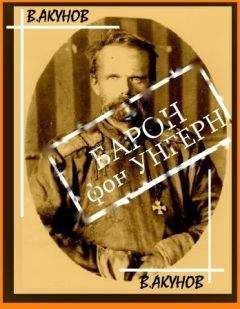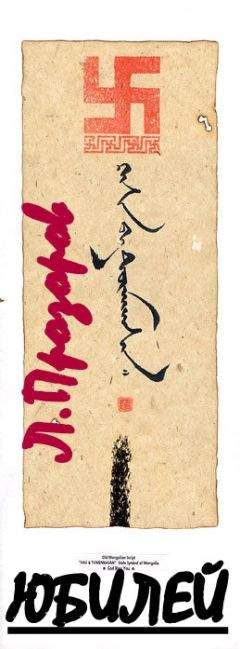Константин Паустовский - Близкие и далекие
В другой раз он сказал:
— Чтобы быть смотрителем маяка, нужно забыть начисто прошлое. Тогда вы никогда не упустите зажечь фонарь.
А бывали случая, что маяки не зажигались? — спросил я.
— Только если смотритель умирал, — ответил Ставраки и усмехнулся. — Или сходил с ума. И если при этом он был совершенно один на маяке. И его некому было сменить. Ни жене, ни дочери.
А у вас есть семья? — спросил я и тотчас почувствовал, что допустил непонятную еще мне самому бестактность.
Он ответил мне грубо и раздраженно:
— Если вы, молодой человек, хотите поддерживать общение с людьми, то не вмешивайтесь в чужие дела. Возьмите лист бумаги и запишите на нем все темы, которых не следует касаться из праздного любопытства.
— Грубость, — сказал я, — не делает вам чести.
Ставраки вынул из кармана бушлата плоский флакон от одеколона, хлебнул из него несколько глотков, потом, прищурившись, посмотрел на меня и сказал наставительно:
— Выспренно разговариваете. Разница наших возрастов обязывает вас к уважительному поведению. А что касается чести, то откуда вы знаете, что она у меня есть? Может быть, ее не было, нет и не будет. И у меня и у вас. И вообще, что такое честь? Осчастливьте нас, напишите для моряков побережья Гагры — Батум статью на эту тему в вашей листовке. Тогда мы, может быть, и поймем.
В это время вошел Ульянский.
— Приветствую вас, кригсгефангенен, — бросил в его сторону Ставраки. — Вот, например, — он повернулся ко мне, — этого юношу и я и вы считаем честным только потому, что ни черта о нем не знаем. Честность — это незнание.
— Дешевые интеллигентские разговорчики, — спокойно сказал Ульянский. — Философия запивох!
Ставраки медленно взял со стула пустую бутылку от водки, повертел ее, внимательно рассмотрел этикетку и вдруг стремительно замахнулся бутылкой на Ульянского. Я схватил ого за рукав кителя. Он вырвался, повернулся к распахнутому настежь окну и изо всей силы швырнул бутылку в трубу на соседней крыше. Бутылка раскололась. По крыше полились, перезванивая, осколки.
— Я целю верно, — сказал Ставраки. — Даже слишком.
Он быстро повернулся и вышел.
— Психопат! — сказал я.
— Нет, — ответил мне Ульянский, — Не психопат, а негодяй.
Я запротестовал, но Ульянский не захотел со мной спорить.
Когда я схватил старика за рукав кителя, послышался треск — должно быть, ветхий китель не выдержал и порвался. Сейчас мне было стыдно, что я порвал китель у этого несчастного человека. Я готов был догнать его и извиниться.
Через несколько дней я возвращался на катере в Батум из поездки в Чакву. Был уже вечер. Море, как всегда в сумерки, уходило в безбрежную мглу, и казалось, что катер испуганно стучит мотором на краю тихой бездны. Маяк низко висел над глухой водяной пустыней, как последнее прибежище человека.
Слабый огонь светился в одном из окон маяка. Над ним победоносно и хищно сверкал маячный огонь, как бы бросая вызов ночной стихии.
Я вспомнил о Ставраки. О чем он думает один на маяке: перебирает ли в памяти свою молодость, свое прошлое, как засохшие полевые цветы, или в который раз читает какую-нибудь книгу, отыскивая в ней утешение для своей неудачливой жизни?
Я снова пожалел старика, но на следующее же утро жалости этой был положен конец — неожиданный и страшный.
Оказалось, что смотритель Батумского маяка Ставраки был именно тем лейтенантом Черноморского флота Ставраки, который в марте 1906 года расстрелял на острове Березани лейтенанта Шмидта.
В ту ночь, когда я проплывал на катере мимо маяка, Ставраки был на рассвете арестован и предан суду.
Подчиняясь какому-то внутреннему требованию и чувству отвращения, я собрал у себя в редакции рукописи статей Ставраки и сжег их. Если бы было можно, я сжег бы свою руку, пожимавшую руку Ставраки. Во всяком случае, я выбросил из редакции в коридор старую садовую скамейку на чугунных ножках, на которой сидел бывший лейтенант Ставраки, и притащил взамен несколько табуреток.
Не знаю, кто из писателей, кто из великих знатоков человеческих душ мог бы написать о черной душе Ставраки, мог бы проследить извилистый путь подлости в мозгу и сердце этого человека. Может быть, Бальзак? Или Достоевский?
«Нет, — думал я, не засыпая по ночам и задыхаясь оттого, что вот тут, в этой комнате, сидел недавно этот человек. Тьма казалась мне до сих пор пропитанной его кислым дыханием алкоголика и курильщика. — Нет, не Достоевский! Конечно, он мог бы написать о нем, но никогда бы не захотел. Никогда! Потому что человеческая доброта могла бы навсегда погаснуть в измученном сердце от прикосновения к жизни Ставраки».
Эта жизнь была сплошной черной изменой. И выросла эта измена из сплошных пустяков: из желания носить лишнюю звездочку на погонах, покрасоваться перед женщинами, из рабьего страха перед всяческой властью — от дворника до императора, из страсти жить богато, беспечно, ни над чем не задумываясь, обсасывая жизнь жадно, как ножку рябчика, и заменяя любовь насилием над хорошенькими горничными. Если это было, конечно, безопасно.
Ставраки окончил вместе со Шмидтом Морской кадетский корпус. Все школьные годы они просидели на одной парте. И все эти годы Ставраки мучился завистью к Шмидту.
Он завидовал его благородству, смелости и его способности к самопожертвованию. Он завидовал ему как будущему герою, трибуну, вождю.
Он знал, что Шмидт способен на это и что эти его качества, если захочет жизнь, дадут Шмидту всемирную славу.
И то время уже Максим Горький сказал свои слова о людях, подобных слепым червям, и Ставраки ненавидел этого «волжского босяка» за то, что он как будто заглянул ему, блестящему гардемарину, в самую совесть и презрительно отвернулся от него.
Когда Ставраки и Шмидт прощались после окончания корпуса, Шмидт сказал Ставраки:
— У тебя, Миша, нет в душе никакого стержня.
— Нет есть! — сердито ответил Ставраки. — Что у тебя за манера — залезать в чужую душу!
— Если и есть стержень, — добавил Шмидт и внимательно посмотрел на Ставраки, — то не железный, а резиновый. Смотри не сковырнись в какую-нибудь гадость. Пока не поздно.
— Мое дело! — ответил вызывающе Ставраки. — Во всяком случае, я не женюсь на проститутке, чтобы спасти ее и лить вместе с ней слезы над ее печальным прошлым, как собираешься сделать ты!
— Довольно! — гневно сказал Шмидт. — У каждого своя дорога. Я могу только молить бога, чтобы наши дороги больше никогда не встречались.
Так они расстались, чтобы встретиться на острове Березани в день расстрела.