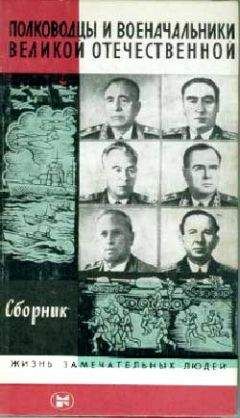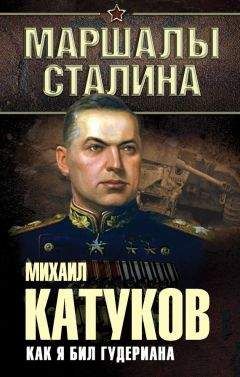Владислав Бахревский - Никон (сборник)
Никон попробовал представить будущего своего противника, упрямого, как… Слова опять не нашлось, а увидел самого себя. Прежнего, анзерского. И каменный, огромный, круглый лоб на море. Море о такие лбы расшибается вдрызг.
Нежно погладил книгу и на едином роздыхе намахал «память» всем этим каменным лбам, пусть делают то, что велят делать, ради их же спасения и блага: «…По преданию святых апостол и святых отец не подабает в церкви метания творити на колену, но в пояс бы вам творити поклоны, еще и тремя бы персты есте крестились».
Перечитал написанное и совсем растревожился. Позвал Арсена Грека, прочитал ему «память».
– Как?
– Мудро, верно, ясно.
Никон улыбнулся. Он и сам знал, что написал верно, ясно и, разумеется, мудро.
– «Псалтырь» и «память» сам отнеси в Казанский собор. Передай в руки протопопу Ивану Неронову.
И тотчас вышел, чтобы не объяснять своему главному книжнику, почему первым читателем избрал Неронова.
Да потому, что храбр был! Сельскому попику, хоть он и оловянный лоб, покажи палку – сразу и поумнеет. Неронов – другой породы. Истый нижегородец. Примет тебя сердцем – будешь друг, не примет – будешь враг. Такого не уластишь, а грозу на него наведешь, будет две грозы, своя да его, – и треск громовый, и молнии пожигающие, и дождь слез.
Не желал Никон в обход идти, на оловянных лбах играючи. Патриаршее ли это дело – заискивать и хитрить? Да ведь и сам нижегородец!
Неронов прочитал патриаршую «память», почесываясь и позевывая: дело было после заутрени – устал и спать клонило.
– «…И тремя бы персты есте крестились», – перечитал вслух, и ему нестерпимо, до рези в мочевом пузыре, захотелось до ветру. – Аввакум! – сунул протопопу «память» и побежал через алтарный, самый короткий выход во двор.
Когда вернулся, Аввакум сидел на скамеечке левого клироса, сидел, как нашкодившее дитя, помаргивая, отводя глаза. При виде Неронова вскочил, «память», лежавшая на коленях, упала. Аввакум, не заметив этого, наступил на нее ногой, тотчас нагнулся, поднял, рукавом отирая с бумаги невидимый след ступни.
Взмолился:
– Прости, отец! В голове что-то все спуталось.
– Погоди прощение-то просить! – Неронов взял «память», перечитал про себя, потом еще раз вслух.
Подошел второй соборный поп Иван Данилов, слушал, выставив ухо.
– Да ведь такие-то дела вселенские соборы решают! Никак не меньше! – сказал Неронов и удивленными глазами воззрился на Данилова, на Аввакума, на отца дьякона. – Надо в Коломенское, за Павлом послать… Собраться надо. У меня нынче и соберемся. Тотчас вот и соберемся.
Дело было неслыханное: патриарх своей волей, ни слова не сказав, почему и зачем, переменял обряды. И какие обряды! На само крестное знамение посягнул! Не желаю, мол, чтоб все крестились, как издревле, желаю, чтоб крестились по-моему!
7Аввакум вот уже год почти оставался без места. Помогал служить Неронову, замещал его во время отлучек. Жил он с семейством при Казанском соборе, в избушке церковного звонаря. Звонарь был весьма преклонных лет, и Аввакум и его частенько замещал на колокольне. Ничего – жили. К хоромам не больно-то успели привыкнуть в Юрьевце.
– Ты что это? Встрепанный какой-то! – удивилась Анастасия Марковна, когда Аввакум забежал домой переодеться после службы.
– Ой, голубушка! – Аввакум только головой покрутил. – Дела пошли! Такие дела-а-а.
– Да какие же?
– А такие, что Никон без году неделя в патриархах, но уже сдурел.
– Петрович! Перекрестись! Экое на патриарха возвел!
– Перекрестился бы, Марковна! Да не знаю как! – Сложил руку для крестного знамения, повертел перед лицом, добавил к двум пальцам большой. – Эко! Щепоть! Щепотью, Марковна, велено креститься!
– Господи! – уронила руки жена. – Щепотью. Да зачем же щепотью?
– А затем. Времена настают!
Марковна сложила пальцы в щепоть, отдернула руку от лица, спрятала за спину.
Вдруг горько и громко расплакался Пронька, ему шел пятый год. Испугался, дурачок! Испугался, на перепуганных родителей глядя. Агриппина, которой шел восьмой, принялась гладить братца по головке, но и у самой глазенки таращились. Старший, Иван, не переносивший ссор и всякого домашнего неустройства, пошел во двор и принес охапку дров. Грохнул, складывая у печи.
– Верно, Ваня! – сказал отец. – Пущай патриархи дурят, а нам жить надо. Нам правильно жить надо, как отцами-дедами учены. Давай-ка, Марковна, расшевели огонь. Пообедаем. После обеда к Неронову побегу. Там у него собираются…
Подхватил на руки Проню:
– Ты чего?
Проня виновато улыбался.
– Ох, мать! – сказал Аввакум, оглядывая детей. – Экие славные ребятки. А Ванюша какой большак. Ведь уж десять лет парню! Кого ты нам еще принесешь?
– Кого Бог пошлет. – Анастасия Марковна смотрела на мужа, на ребят и слышала, как тихая боль, крадучись, забирается ей в самое сердце.
Подумала про себя: «Господи, пусть все будет как есть. Лучшего нам не надо. Убереги от худшего».
8«Память» Никона была прочитана вслух и лежала теперь посреди стола, и все смотрели на нее с испугом и удивлением.
От невеликой грамотки, вдруг явившейся на белый свет, зависело не только их собственное земное благополучие и вся вечная жизнь, но и всех русских людей. Согласиться с «памятью» – признать, что все прежние поколения отцов Богу молились не по правилу, а стало быть, усомниться в том, что они за подвиг жизни получили в награду Царство Небесное. Отринуть «память» – восстать против святейшего патриарха, который дан от Бога.
В горнице было тесно. Пришли к Неронову попы и дьяконы Казанского собора, приехал епископ коломенский Павел, пришел обретавшийся теперь в Москве, изгнанный костромичами протопоп Данила, был соловецкий монах Иона, привезший царю и патриарху иконы, были отставленные от дела справщики Иван Наседка, монах Савватий, мирянин Сила Григорьев – Никону терпения ненадолго хватило. Был и Аввакум, зачитавший «память» с рокотом в голосе и с огнем в сердце.
Все молчали. И Аввакум, у которого огонь зеленым полымем в сердце ходил, крикнул непривычно на высокой ноте:
– Ослепительная грамотка-то! Ослеп Никон от блеска патриаршего места. В этой писульке ни благочестия, ни ума – одна необъезженная гордыня и греческая напасть!
– Греческая! Греческая! – крикнул обрадованный верному слову Иван Наседка.
Все разом загалдели, раскраснелись. Один Павел сидел молча, глядя себе под ноги. И, услышав это архиерейское молчание, спорщики притихли да и совсем угомонились.
Понимая, что все ждут его слова, Павел побледнел. Велика была ноша, взвалить ее на себя, не рассмотрев все возможные последствия, он не мог, сама значимость его сана не позволяла ему всуе слова сказать. Сердцем, рассерженным умом и оскорбленным чувством он был с протопопами. И эта двойственность давила его, и он уже изнемогал под нею.