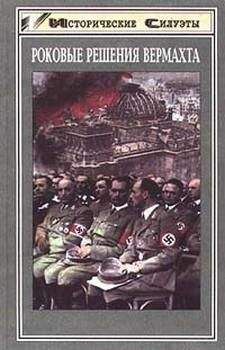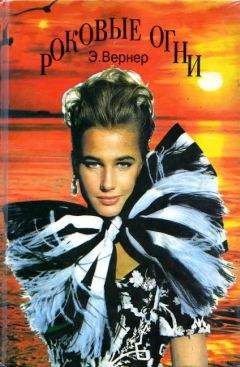Игорь Оболенский - Мемуары фрейлины императрицы. Царская семья, Сталин, Берия, Черчилль и другие в семейных дневниках трех поколений
В Тбилиси я пошла в школу.
Окна моего класса выходили на здание КГБ. Как-то во время урока, когда учительница вышла, я высунулась в окно и закричала нашей знакомой, которая печатала расстрельные списки: «Что, много печатаете?» Та аж растерялась от удивления. Мама меня потом ругала: «Неужели ты не понимала, что могла подвести ее?»
…Один арестованный рассказывал мне, как во время допроса следователь отвлекся на что-то, и он успел подбежать к окну и взглянуть на город. В это время по улице, оказывается, шла я. В сиреневом пальто, в шарфе. Он так точно описал меня. Потому что я стала для него знаком того, что жизнь продолжается…
Мама мечтала, чтобы я научилась играть на фортепиано. У нас инструмента не было, и я ходила заниматься к маминым подругам – то к Чуте Эристави, то к Кетусе Месхишвили. Кетуся жила в одном доме с театральным художником Сулико Вирсаладзе…
Заниматься музыкой я терпеть не могла. И просила сына Кетуси через несколько минут после начала занятия войти в комнату и сказать недовольно: «Ну вот, опять она бренчит! Наигралась, может быть? Хватит уже?»
К урокам я почти не готовилась. Но у меня была хорошая зрительная память. И мне достаточно было один раз взглянуть на ноты, чтобы запомнить все.
Моим педагогом по музыке был поляк Португалов. Очень интересный человек. Дома у него была красивая мебель, на стенах висели старинные фотографии его предков. Как-то он мне сказал: «Татули, на следующей неделе у нас концерт. Ты будешь играть вальс!»
Наступил день концерта. Я пришла на него конечно же неподготовленная. Пыталась отказаться от выступления. А Португалов сел в кресло, бросил на рояль ноты и говорит:
– Ты читала «Анну Каренину»? Так вот, представь, что ты в белом платье сидишь за роялем в салоне, а Анна с Вронским танцуют под твой аккомпанемент вальс. Представила? Тогда иди к инструменту.
Я села, кое-как сыграла этот вальс. Встала из-за инструмента и смотрю на Португалова. Тот несколько минут помолчал, а потом сказал:
– Знаешь, как ты сыграла? Словно Стаханов и доярка Мария Дымченко танцевали!
А тогда в газетах чуть ли не каждый день писали о рекордных надоях этой самой Дымченко. Мне так обидно стало, что, придя домой, сказала маме: «Кончилась моя музыкальная карьера. Больше не пойду!» И действительно, больше на музыку не ходила…
Когда мне исполнилось лет шестнадцать, из меня решили сделать танцовщицу. У Джано Багратиони был свой ансамбль народного танца. Он взял меня, Медею Джапаридзе, Медею Яшвили, Нуну Сванишвили и стал с нами заниматься. Но из этого тоже так ничего и не вышло…
Дочь поэта Паоло Яшвили Медея была моей ближайшей подругой. Я часто видела и самого Паоло. Он был увлекающимся человеком. И блистательным поэтом.
Ухаживал за Кетусей Месхишвили. По четвергам, когда в доме приемов собиралось высшее общество, прочитал в честь нее четверостишие о том, что «Четверги приносят мне счастье, ты – царица четверга».
А когда Кетуся вышла замуж за одного из министров правительства Ноя Жордания, написал такое стихотворение:
Переменчива судьба,
И изменчив этот свет —
Вы теперь жена министра,
Я влюбленный в вас поэт.
Он вообще был мастером экспромта. Однажды сидел на заседании Союза писателей рядом с Корнеем Чуковским и написал что-то по-грузински. А когда Чуковский спросил, почему по-грузински, он тут же сочинил экспромт на русском.
Какое чудное соседство,
Здесь Белый, Блок и Пастернак.
Я рядом занимаю место,
Как очарованный простак.
Перевожу вам эти строчки
На несравненный русский лад —
Поэт моей любимой дочки,
А для меня – весь Ленинград.
Его обожали все. Когда я потом готовила сборник его произведений (при жизни он печатался только в газетах), то обнаружила в архиве письма Александра Блока и Андрея Белого к Яшвили. Они пишут, с каким нетерпением ждут дней Грузии – тогда проводились такие акции, – чтобы можно было приехать в Тбилиси, увидеться с Паоло и поехать с ним в Цинандали.
Мать Паоло была из Имеретии. Один раз, когда он ездил навещать ее, мы оказались соседями по вагону. Мы только приехали из ссылки из Саратова.
Папа много разговаривал с ним. Помню, они вышли на перрон и так увлеклись беседой, что я начала беспокоиться. Уже три свистка было, а они все стоят и о чем-то говорят.
Тогда я не выдержала и закричала: «Идите в вагон, был свисток». Паоло поднялся, подошел ко мне и спрашивает: «И тебе не стыдно? Ну и что, что был свисток? Что вообще такое этот свисток?» А потом надписал мне книгу: «Татули, исцавле карги картули». («Татули, учи хорошо грузинский».)
А как-то мы шли с папой по Руставели и встретили Паоло. Он поднял меня на руки и говорит:
– Я сегодня утром поднял на руки свою Медею и сказал ей, что она самая красивая. А Медея ответила: «Если бы ты видел Татули Масхарашвили, то не сказал бы так».
Папа мой был счастлив это услышать:
– Пусть у нас с тобой, Паоло, будут самые красивые дочери.
Но об этом, наверное, не надо. Неудобно мне об этом говорить. Медея всегда меня вспоминала, когда ей комплименты делали. А она очень красивой была, эффектной…
В 1936 году начались аресты. Арестовывали влиятельных людей, работников ЦК партии. Папа даже в шутку сказал: «Ну вот, своих начали арестовывать, нас теперь оставят в покое».
Но потом и папиных друзей арестовали. Его самого уговаривали уехать в Россию. Но он не захотел. А возле нашего дома в это время уже в открытую стояли чекисты и смотрели в наши окна. Такое неприятное ощущение было. Папа перестал ночевать дома.
Как-то из Кутаиси приехала двоюродная сестра. И папа махнул рукой: «Черт с вами, останусь сегодня». И не ушел.
В ту ночь никак не засыпал мой брат, все вертелся, вздыхал. Я даже рассердилась на него. А в четыре часа утра раздался стук в дверь. Ну, конечно, влетели, судорожно принялись что-то искать.
В комнате стоял французский буль. Один из пришедших спросил: «Это шкаф или печка?» И чекист-армянин ответил: «Печка», хотя понял, что шкаф, там ключи в замке были.
В этом буле лежала сберкнижка. И она нас потом спасла. Близкий друг папин, министр финансов, с риском для своей жизни вернул нам эти деньги.
Когда обыск кончился, папу забрали. Увели, как всех уводят. Это было сплошь и рядом. У меня в классе чуть ли не десять одноклассников было, у кого родителей арестовали, так же у моего брата.
Папа не думал, что уходит навсегда. До этого его ведь три раза арестовывали. Да и никто тогда не верил, что это навсегда.
У нас один знакомый перед своим арестом принес домой несколько буханок хлеба. И когда его выводили, он обернулся к жене: «Ну, тебе этого хлеба хватит до моего возвращения. Я ни в чем не виновен и скоро вернусь». Его расстреляли.