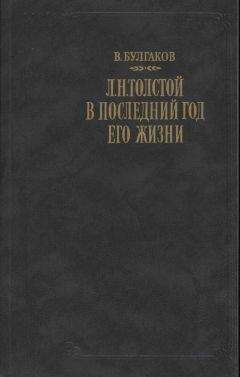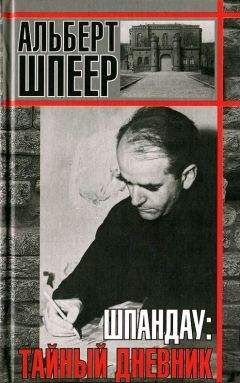Александр Гольденвейзер - Вблизи Толстого. (Записки за пятнадцать лет)
По просьбе Л. Н. мы с женой играли в четыре руки симфонии Гайдна. Л. Н. восхищался Гайдном; между прочим, он сказал:
— Едва ли не самое ценное для меня свойство Гайдна — его жизнерадостность; а то теперешний какой‑нибудь напьется, испортит себе желудок, а потом говорит, что жизнь — зло.
Еще Л. Н. по поводу музыки сказал:
— Как бывает, что вспоминаешь слышанную музыку, а я ее предвкушаю. Вот нынче — я надеваю сапог, а из сапога выскочил менуэт.
Потом Л. Н. сказал, что симфонии Гайдна доставляют ему больше удовольствия на фортепиано в четыре руки, чем в оркестре.
На мой вопрос, почему это так, Л. Н. сказал:
— Во — первых, возможность совершенства исполнения обратно пропорциональна количеству исполнителей. Самое благоприятное условие — один исполнитель, меньше два; трио в этом отношении лучше квартета, квартет — квинтета и т. д., камерная музыка — оркестра. При многих инструментах все более утрачивается чистота звука, так как невозможен безусловно чистый строй и интонация; наконец, ритмическая точность почти недостижима при большом числе исполнителей. Вторая причина — моя субъективная: для меня яркость красок не способствует, а мешает силе впечатления. Особенно я замечаю это на картинах. Я помню, я давно знал и любил «Тайную вечерю» Ге, а когда увидел ее на выставке, впечатление было значительно меньше. Яркие цвета мне просто мешали. Есть копия этой картины (черная) Крамского, она в Румянцевском музее. Будете там, непременно посмотрите. Она на меня производит впечатление гораздо большее. И как с этой картиной, так и с другими.
Разговор перешел на картины. Мой отец вспомнил Сикстинскую Мадонну. Л. Н. спросил его:
— Что она, так же висит в отдельной комнате и так же стоит напротив скамейка, на которую каждый садится и старается сказать что‑нибудь свое умное про картину?
Л. Н. сказал, что Сикстинская Мадонна не произвела на него особенного впечатления.
Рассказывая, как часто присылают ему разные авторы свои сочинения, Л. Н. сказал:
— Их так много, что просто не знаешь, куда их девать. Вот Чехов нашел выход: он посылал все такие книги в Таганрог (в тамошнюю библиотеку). Вот бы найти и мне какое‑нибудь такое место…
Из письма Софьи Андреевны от 1 ноября. «Л. Н. был все время здоров, но дня три, как жалуется на желудок. Все- таки ездил еще сегодня к Марии Александровне верхом. Как и всех нас, его угнетает и огорчает положение дел в России. У нас очень людно… Осень была ужасная по сырости, темноте и болезням. Вся Ясная Поляна перехворала тифом, восемь человек умерло. Теперь лучше, морозит, выпал снег, но дорог еще нет…»
Из письма Александры Львовны от 5 ноября. «Папа очень рад был вашему письму я велит вам сказать, что при случае напишет вам, а теперь поручает мне сказать вам, что он очень, очень был бы рад вас видеть я жалел о том, что забастовки помешали вам приехать с вашей женой, как вы собирались. Мы все не совсем ясно помним, вы ли взяли у папа Шильдера (историю Николая I — брал у Л. Н. не я), чтобы его отдать в переплет. Если это вы, и если Шильдер готов, то папа просит его ему прислать по возможности поскорее.
Нас грозят здесь разгромить за то будто бы, что здесь скрываются бунтовщики. По теперешнему времени всего можно ожидать…»
Письмо Л. Н. ко мне 11 ноября: «Милый Александр Борисович! Рад был вашему письму, как всегда рад общению с вами. Очень жаль, что не можете добраться до нас. То, что думаю о событиях, я, как умел, высказал в статье «Конец Века». Отослал печатать. Хотел бы напечатать в России. Все дело, с моей точки зрения, в том, что наступило время, когда насилие, узаконенное насилие, допускаемое, неосужденное, должно быть признано всегда преступлением, несвойственным разумному человеку, и должно быть заменено разумным убеждением, согласием и любовью. Пора людям понять — или скорее увидеть, — что поднявший меч от меча погибает. Замены же насилия разумным согласием и любовью нельзя ждать извне от людей, а надо совершать ее в своей жизни. И потому нельзя быть достаточно строгим и внимательным к себе в такое время как теперешнее: чтобы не согрешить ни делом, ни словом, ни мыслью, став на ту или другую стороны людей, борящихся насилием.
Вот мое отношение к событиям. А события важные — и, я думаю, ведущие к добру — как и вся жизнь.
До свидания, привет вашей жене и брату. Продолжает ли он заниматься Кантом, которого он так хорошо понимает».
31 декабря. Л. Н. рассказывал, как од подсел на телегу к старику — крестьянину, ехавшему из Тулы. Старичок чуть — чуть выпил и был очень разговорчив. Л. Н. рассказал ему про распределение земли по Генри Джорджу; мысль эта старику чрезвычайно понравилась. Он так увлекся, что когда Л. Н. слез уже на повороте в Ясную с телеги, он ему вдогонку закричал:
— Так ты уж похлопочи, приложи труды, постарайся об этой части!
Говорили как‑то за обедом о браках по расчету и сватовству. Л. Н. полушутя, полусерьезно сказал, что такие браки скорее могут быть счастливыми, так как молодые люди, влюбленные, не могут зачастую взвесить всех условий для согласной жизни, а родители, зная свойства детей, могут выбрать подходящую невесту или жениха.
— Часто бывает, — прибавил Л.H., — что у знаменитых писателей возьмут какой‑нибудь прием, да еще в большинстве случаев слабый прием, и пользуются им кстати и некстати. Чаще всего это делали по отношению к Гоголю. Вот и в этом случае: Гоголь высмеивал свах, и с его легкой руки писатели стали выводить их в смешном виде, а между тем это препочтенная профессия.
Л. Н. говорил полушутя и смеялся, но доля серьезности несомненно была в его словах.
Л. Н. тогда же сказал:
— Меня всегда интересовало следить за тем, что может в литературе устареть. Мне интересно, что в теперешних писаниях будет казаться таким же устаревшим, как нам теперь какие‑нибудь Карамзинские «о сколь!» и т. д. Вот на моей памяти стало невозможным написать длинную поэму в стихах. Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения. Будет совестно сочинять про какого‑нибудь вымышленного Ивана Ивановича или Марию Петровну. Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что им случилось наблюдать в жизни.
В начале декабря Л. Н. сказал мне как‑то:
— Это только кажется, будто правительство имеет какой‑то план, искусно заманивает, а потом ничего не дает и т. д. Оно просто мечется и не знает, что ему делать. Когда смотришь на следы зайца на снегу, можно подумать: какой он умный — делает прыжок, вертится на одном месте, потом скакнет, и опять, так что следов не найдешь. А между тем ничуть не бывало: просто он днем идет, вдруг испугается чего‑нибудь, присядет, потом прыгнет в сторону и т. д. А мы говорим: какой он умный! Так и правительство. Они там если о чем и думают и желают чего, так это, как немцы говорят: «Wenu es nur immer bliebe!» («Если бы навсегда так осталось!»).