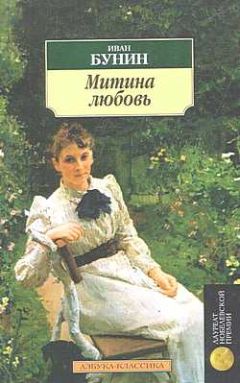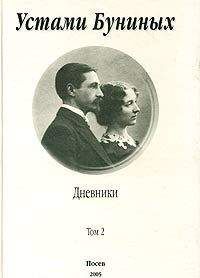«Чувствую себя очень зыбко…» - Бунин Иван Алексеевич
Цуриковым же следует и поправлять некоторые чужие воспоминания и статьи о Толстом. Вот, например, недавно напечатанная в “Руле” статья г. Бродского о языке Толстого, основанная на воспоминаниях Гольденвейзера, – о языке Толстого не литературном, а житейском. Бродский верно замечает, что “в жизни великих художников мелочи их быта, незначительные на первый взгляд привычки, одежда, манера себя держать, внешний облик и язык, – не литературный, а житейский, – зачастую дают то, чего не заменят целые тома биографий”, – и приводит затем из книг Гольденвейзера “некоторые особенности Толстовского языка”. Были ли, однако, эти особенности лично Толстовскими? Спросите Н.А. Цурикова – он ответит, что, конечно, нет, нисколько.
Это же скажу и я, тоже земляк Толстого, принадлежащий к тому же быту, что и Толстой. Нет, это не Толстовские, это наши общие особенности: особенности языка той сравнительно небольшой местности, самые дальние окружные точки которой суть Курск, Орел, Тула, Рязань и Воронеж. И разве не тем же языком пользовались чуть ли не все крупнейшие русские писатели? Потому что чуть не все они – наши. Мы недавно говорили об этом с Цуриковым, и он в своих “Встречах с Толстым” уже написал это: замечательная местность, много славных земляков у нас с ним! Жуковский и Толстой – тульские, Тютчев, Лесков, Тургенев, Фет, братья Киреевские, братья Жемчужниковы – орловские, Анна Бунина и Полонский – рязанские, Кольцов, Никитин, Гаршин, Писарев – воронежские. Даже и Пушкин с Лермонтовым отчасти наши, ибо их родичи, Воейковы и Арсеньевы, тоже из наших мест, из наших квасов, как говорят у нас.
Повторяю, из всего множества примеров, которые приводит Гольденвейзер в доказательство особенностей Толстовского языка, я не нашел ни одного, который убедил бы меня в этих особенностях.
– “Толстой слегка пришепетывал: например, слово лучше произносил как лутче…”
Пришепетывание тут совсем не причем. Я никогда не пришепетывал, а всегда говорил “лутче”, ибо у нас все так говорили – и в семье, и на дворе, и в деревне, где пели:
– “Толстой букву г в большинстве случаев произносил как легкое французское аш…”
Но я, в силу вышеуказанной причины, даже и после шестилетней жизни во Франции, говорю: Господи почти как Хосподи.
– “Толстой употреблял такие выражения, как намедни, давеча, эдакой вместо этакий, свита вместо армяк; Толстой говорил скрыпка вместо скрипка, скородить вместо боронить, делал ударение на втором слоге с конца в слове до-смерти…”
И опять я только усмехаюсь: но мы все и всегда так говорили!
Кстати, вообще о языке этой нашей местности. Конечно, не мешает помнить столь затрепанное замечание Пушкина о языке московских просвирен. А не лучше ли все-таки был наш язык? Ведь к нам слали из Москвы (для защиты от набегов татар) служилых людей со всех концов России. Не естественно ли, что тут-то и должен был образоваться необыкновенно богатый, богатейший язык? Он, по-моему, и образовался.
“Своими путями”
Случайно просмотрел последний номер пражского журнала “Своими путями”. Плохие пути, горестный уровень!
Правда, имена, за исключением Ремизова, все не громкие: Болесцис, Кротков, Рафальский, Спинадель, Туринцев, Гингер, Кнут, Луцкий, Терапиано, Газданов, Долинский, Еленев, Тидеман, Эфрон, и т. д. Правда, все это люди, идущие путями “новой” русской культуры, – недаром употребляют они большевистскую орфографию. Но для кого же необязателен хотя бы минимум вкуса, здравого смысла, знания русского языка? Вот стихи Болесциса, которыми открывается номер:
Вот Рафальский:
Вот Туринцев:
Вот Гингер:
Вот Давид Кнут, у которого некто Он, идущий “за пухлым ангелом неторопливо”, обещает Ною награду —
Вот Ладинский, подражающий, очевидно, Третьяковскому:
Вот Луцкий:
Очень хорошо! Но дальше еще лучше: оказывается, что эти господа еще и претендуют быть учителями русского языка. В журнале есть отдел под странным заглавием “Цапля”, где между прочим высмеивается язык обращений Великого князя Николая Николаевича. Приводится несколько строк из этих обращений: “Нестерпимы угнетения народа русского, преследование веры православной…” Казалось бы, что тут смешного? Но авторы “потного языка”, “таверэн” и “мечт” все-таки смеются, они говорят:
“Определение, поставленное после определяемого, приобретает свойство парафина, на этой слабительной стороне держится весь так называемый русский стиль, да Бог с ним, высокопоставленным адресам время прошло”…
Смею уверить пражских комсомольцев, что весьма многие и весьма неплохие русские писатели ставили и ставят определение после определяемого, когда это требуется, и что подобное остроумие всячески и на всех путях непристойно.
“Версты”
Еще один русский журнал за рубежом, – первая (и громадная) книга “Верст”. Просмотрел и опять впал в уныние. Да, плохо дело с нашими “новыми путями”. Нелепая, скучная и очень дурного тона книга. Что должен думать о нас культурный европеец, интересующийся нами, знающий наш язык, понимающий всю страшную серьезность русских событий – и читающий подобную русскую книгу? Кто тот благодетель, тот друг “новой” России, который так щедро на нее тратится? И что значит – “Версты”? Верстовые столбы, что ли, то есть опять “новые вехи”? И с какою целью расставляются они?
Редакторы – Святополк-Мирский, Сувчинский и Эфрон, ближайшее участие – Ремизова, Марины Цветаевой и… Льва Шестова. Что за нелепость, за бесшабашность в этой смеси: Цветаева – и Шестов! И какая дикая каша содержание журнала! Треть книги – перепечатки из советской печати. Остальное – несколько вещей Ремизова, поэма (“Поэма горы”) Цветаевой, статья Лурье о музыке Стравинского, статья Шестова о Плотине, несколько статей Святополк-Мирского, затем опять перепечатки из советской печати… и, наконец, ни с того ни с сего, “Житие Протопопа Аввакума, им самим написанное”… Что за чепуха, и зачем все это нам преподносится?