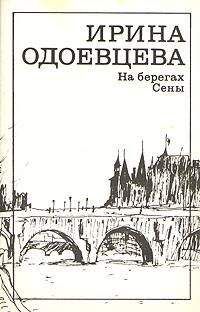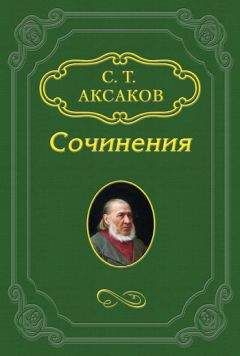Ирина Одоевцева - На берегах Сены.
— Я читал вашу статью двадцать семь раз и еще буду читать! Спасибо!
С того дня, как я побывала на вернисаже «Белых симфоний» Шаршуна и прочла монографию Ренэ Герра о нем, я стала постоянно думать о нем и его творчестве. Мне хотелось узнать того нового, прославившегося Шаршуна, увидеть его новые картины. И вот 17 июня — в незабываемый для меня день — Ренэ Герра повез меня и Я.Н.Горбова в Ванв, в мастерскую Шаршуна.
Мастерская его — маленький особнячок в саду. Перед ним две стройные прямые березы. Почему-то во Франции березы кособоки, мучительно изогнуты, а у этих чисто «русская стать». Шаршун, должно быть, очень любит их.
Большая студия с огромным окном. Ренэ Герра, сверкая белозубой улыбкой и окладистой черной бородой, ловко и хозяйственно расставляет полотна по мольбертам. И вот они перед нами.
Несколько совершенно темных полотен, с солнцем в правом верхнем углу, а в центре солнца — маленький крест. «И вчерашнее солнце на черных носилках несут», — вспоминаю я. Остальные — ибисы, моржи, пингвины на фоне тропического пейзажа.
Неужели их написал Шаршун? Даже не верится, так они не похожи на все, что он делал до сих пор, так они как будто идут вразрез с его прежним творчеством.
Я вспоминаю, как при нашей встрече после долгой разлуки подумала: внешне он совсем такой же, но внутри в нем, наверное, происходят революции, катаклизмы и землетрясения.
И теперь я вижу, что была права — революции, землетрясения, не оставляющие камня на камне, ломающие, вычеркивающие все старое начисто во имя нового. У него редчайший дар не только возрождаться, не только магически преображать видимый мир, но как бы заново создавать его.
Эти фламинго, пингвины и моржи, казалось бы, — реализм. Но они так же далеки от реализма в его обыденном определении, как от абстрактности. Это магический реализм. Это новый Шаршун. Другого названия не нахожу.
Шаршун в 88 лет, увидев мир чистыми, невинными, младенческими глазами, с помощью всего своего накопленного за столько лет мастерства сумел его изобразить и передать.
Так часто повторяемая художниками фраза: «Важно не только то, что на картине, а и то, что за ней», — всплывает в моей памяти.
Глядя на картины Шаршуна, я мысленно добавляю — не только, что «за», но и «вокруг» картины важно. Мне кажется, что я вижу вибрирующий вокруг них, похожий на сияние воздух. Нет, они не исчерпываются тем, что на них изображено. Здесь не только то, что изображено, здесь еще и впечатление от изображенного, и это, может быть, важнее всего.
Мы расписываемся в толстом альбоме. Ренэ Герра снимает нас на фоне картин и рядом с ними.
И вот уже надо уходить. Шаршун провожает нас до автомобиля. Идет мелкий дождь, но Шаршун непременно хочет проводить нас.
Ренэ Герра снова нас снимает, — у него, должно быть, не меньше ста фотографий Шаршуна. Мы прощаемся — до осени. Мы осенью все снова встретимся. Непременно. До свидания. До свидания...
Но встретиться с Шаршуном мне больше не пришлось. 17 июня 1974 года я видела его в последний раз.
* * *Адамович так говорит в своих воспоминаниях о Бунине: «Я никогда не мог смотреть на него, говорить с ним, слушать его без щемящего чувства, что надо бы на него наглядеться, надо бы его наслушаться, именно потому, что это один из последних лучей какого-то чудного русского дня».
Но, заменив Ивана Алексеевича Георгием Викторовичем и Бунина — Адамовичем, я, не меняя ни одного слова, могла бы написать все это об Адамовиче. Это как раз то, что я чувствовала, глядя на него. Да, я никогда в последнее время не глядела на него без щемящего чувства, что надо бы на него наглядеться, надо бы его наслушаться... именно потому, что это один из последних лучей какого-то чудного русского дня. Один из последних? Нет, последний. Больше не осталось никого. Как точно, как хорошо и правильно он, говоря о Бунине, сказал это о себе.
Адамович, как и Бунин, редко вел связные отвлеченные беседы и любил говорить только о пустяках. Но эти пустяки всегда были переполнены «скрытой содержательностью» и светились его глубоким умом. Он сам знал за собой эту черту и часто повторял строки Георгия Иванова:
Поговори со мной о пустяках,
О вечности поговори со мной.
Ведь «пустяки» всегда перекликались у него с «вечностью». В капле воды для него, как для Блейка, отражался весь океан. Самый, казалось бы, пустяковый разговор с ним открывал «поля метафизики», как он сам насмешливо говорил. Еще о его отношении к «пустякам» — его собственными словами. И опять как будто о нем самом — из его некролога об Александре Гингере: «Всегда разговор с ним бывал интересен, даже если и касался сущих пустяков или какой-нибудь смешной мелочи. Ум человека обнаруживается в пустяках, пожалуй, очевидней, чем в предметах важных и высоких, где за фразеологией и туманами так легко скрыть мыслительную нищету. Он был умен в мельчайших своих наблюдениях, а наблюдал он людей и жизнь усердно».
Да, все это как будто о нем, будто он сам о себе писал.
Когда осенью 1971 года он объявил мне, что хочет лететь в Америку, я испугалась — ведь это ему не по силам. Его утомляет каждый выход из дома, каждый разговор. А тут полет, бесконечные встречи и приемы, чествования, выступления. Он согласился со мной:
— Да, конечно. Но если я сейчас не полечу, то мне уже никогда не удастся. Никогда.
Против этого спорить было невозможно.
— Что ж? Раз доктор вам разрешил... — я не стала его отговаривать, да он и не послушался бы меня.
Все время, пока он был в Америке, а он отсутствовал гораздо дольше, чем предполагал, я очень волновалась, несмотря на то что он писал успокоительные письма, только вскользь упоминая, что был болен — «съел что-то неподходящее», и уверял, что он «осторожнее осторожного», отказывается от многих выступлений, сиднем сидит дома и совсем не утомляется.
Я успокоилась, только когда он вернулся в Париж. Ну, слава Богу! Я напрасно волновалась. Все мои предчувствия оказались вздором. Полет в Америку, казалось, даже пошел ему на пользу. Он как будто даже поздоровел и помолодел. Оттого, что «хлебнул славки», как я шутливо говорила.
Но он только махнул рукой.
— Ну какая там «славка». Сами знаете. К тому же я не честолюбив. Буря в стакане воды. Этому я не верила.
— Бунин утверждал, что нечестолюбивых писателей нет и быть не может. Только одни это скрывают и ловко прикидываются скромными. Вы не согласны с ним, Георгий Викторович?
Адамович пожал плечами.
— Не согласен. Но давайте не спорить. Терпеть не могу спорить. Доказывать утомительно, но и молчать, когда хочется возражать, тоже утомительно. Мне с вами так легко оттого, что я с вами почти всегда одного и того же мнения. Вы меня и я вас с полслова понимаем. Должно быть, оттого, что когда-то мы с вами вместе дышали петербургским воздухом тех баснословных лет — «Блажен, кто им когда-нибудь дышал».